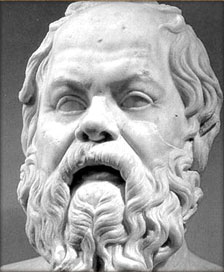учеников — это преимущественно сыновья самых богатых граждан, у которых больше всего досуга! И уже само это противопоставление, суть которого в том, что круг Сократа явно богаче и благополучнее, чем большинство граждан Афин в целом, как представляется, не могло не задеть судей, не могло не разбудить их «классовое чутье», столь характерную для демократических Афин социальную зависть.
Высказавшись по этому поводу, Сократ переходит в наступление и спрашивает Мелета о том, кто же по его мнению, тогда воспитывает афинское юношество правильно?
«Мелет отвечает: Афинские законы.
Сократ: Да не об этом я спрашиваю, любезнейший, а о том, кто эти люди, что прежде всего знают их, эти законы.
Мелет: А вот они, Сократ, — судьи.
Сократ: Что ты говоришь, Мелет? Вот эти самые люди способны воспитывать юношей и делать их лучшими?
Сократ: Все? Или одни способны, а другие нет?
Мелет: Все.
Сократ: Хорошо же ты говоришь, клянусь Герой, и какое множество людей, полезных для других. Ну вот они, слушающие, делают юношей лучшими или же нет?
Мелет: И они тоже.
Сократ: И члены Совета?
Мелет: Да, и члены Совета.
Сократ: Но, в таком случае, не портят ли юношей те, что участвуют в Народном собрании? Или и те тоже, все до единого, делают их лучшими?
Мелет: И те тоже.
Сократ: По–видимому, кроме меня, все афиняне делают их добрыми и прекрасными, только я один порчу. Ты это хочешь сказать?
Мелет: Как раз это самое».
Дальше Сократ приводит житейское наблюдение о том, что обычно на лошадях ездят все, но улучшают лошадей только немногие, которые являются именно знатоками верховой езды, и это означает, что высказывание Мелета неправильно; такого, чтобы все улучшали афинских юношей, а портил их только Сократ, быть не может даже в принципе! Однако Мелет понимает, что Сократ является специалистом в проведении именно таких вот аналогий и предусмотрительно не втягивается в дальнейший разговор на эту тему.
И тогда Сократ (с нашей точки зрения, ошибочно) ставит перед Мелетом предельно жесткий вопрос и получает на него такой же предельно жесткий и однозначный ответ.
«Сократ: …Ну вот. А привел ты меня сюда как человека, который портит и ухудшает юношей намеренно или ненамеренно?
Мелет: Который портит намеренно» [27].
Этим сознательным обострением дисскуссии Сократ по сути поставил себя в очень уязвимое положение. Ведь сомневаясь в том, что присутствующие на заседании судьи и наблюдающие ход процесса простые афиняне могут научить юношество чему–то хорошему (в том числе искусству государственного управления), Сократ не просто их очень сильно обижал лично, но и шел вразрез тем обыденным представлениям, которые опять–таки великолепно отражены в вышедшей незадолго до суда над Сократом комедии Аристофана «Лягушки», где актер, обращаясь в антистрофе к хору, произносит буквально следующее:
«Постарайтесь изящней, помудрее говорить.
Если страшно вам, боитесь, что невежественный зритель
Не оценит полновесно ваших тонких, острых мыслей,
Попечения оставьте! Не заботьтесь! Страх смешон.
Книгам каждый обучался, каждый правду разберет.
Все — испытанные судьи,
Изощренные в ристаньях,
Так не бойтесь, спорьте смело,
Состязайтесь. По заслугам Зрители оплатят вам» [28].
Так вот, это пресловутое «по заслугам зрители отплатят вам» теперь играло явно не в пользу престарелого философа. И потому не случайно, что Платон в своей «Апологии Сократа» несколько раз сообщает нам, что многие судьи во время выступления Сократа что–то возмущенно выкрикивали, и он был вынужден специально просить их дать ему договорить.
Оказавшись по сути дела проигравшим по обвинению в порче юношества, Сократ переходит к пункту обвинения его в безбожии и введении им новых богов. Тут Сократ справедливо замечает, что разве бы он мог всю свою жизнь говорить о наличии у него божественного голоса — демония, если бы он не верил в наличие собственно божественных сил? Конечно, же нет!
Тут Сократ уточняет свое обвинение в отсутствии веры в богов и спрашивает Мелета: «Скажи, пожалуйста, яснее и для меня и для этих мужей (судей): то ли некоторых богов я учу признавать, а следовательно, и сам признаю богов, так что я не совсем безбожник и не в этом мое преступление, а только я учу признавать не тех богов, которых признает город, а других; или же ты утверждаешь, что я вообще не признаю богов, и не только сам не признаю, но и других этому научаю.
— Вот именно, я говорю, что ты вообще не признаешь богов.
— Удивительный ты человек, Мелет! Зачем ты это говоришь? Значит, я не признаю богами ни Солнце, ни Луну, как признают прочие люди?
— Право же так, о мужи судьи, потому что он утверждает, что Солнце — камень, а Луна — земля.
— Берешься обвинять Анаксагора, друг Мелет, и так презираешь судей и считаешь их столь несведущими по части литературы! Ты думаешь, им неизвестно, что книги Анаксагора Клазоменского переполнены подобными мыслями? А молодые люди, оказывается, узнают это от меня, когда они могут узнать то же самое, заплатив за это в орхестре иной раз не больше драхмы, и потом смеяться над Сократом, если бы он приписывал эти мысли себе, и к тому же столь нелепые» [29].
Далее путем несложной логической операции Сократ великолепно выходит из ситуации и по сути снимает с себя обвинение в безбожии. Спросив Мелета, можно ли признавать все лошадиное и людское, а лошадей и людей не признавать, Сократ добился, что так нельзя, ибо одно без другого невозможно. Следующим вопросом Сократ выяснил, можно ли признавать божественные знамения, а гениев не признавать. Мелет согласился с тем, что признавать следует и то и другое. Тогда Сократ спросил, а не являются ли гении детьми богов, а раз являются, то разве можно обвинять Сократа, который всегда говорит о своем божественном голосе (даймоне), и при этом не признает бога, который породил этого гения [30]. Ответить на это что–то внятное Мелет так и не сумел.
Вкратце пройдясь по пунктам обвинения, Сократ затем переходит в контрнаступление и обозначает свое общественное значение. Сократ говорит судьям: «О мужи афиняне, я защищаюсь теперь совсем не ради себя, как это может казаться, а ради вас самих, чтобы вам, осудивши меня на смерть, не проглядеть дара, который вы получили от бога. В самом деле, если вы меня убьете, то вам нелегко будет найти еще такого человека, который, смешно сказать, приставлен к городу как овод к лошади, большой и благородной, но обленившейся от тучности и нуждающейся в том, чтобы ее подгоняли. В самом деле, мне кажется, что бог послал меня городу как такого, который целый день, не переставая, всюду садится и каждого из вас будит, уговаривает, упрекает. Другого такого вам нелегко будет найти, о мужи, а вы меня можете сохранить, если вы мне поверите. Но очень может статься, что вы, как люди, которых будят во время сна, ударите меня и с легкостью убьете, послушавшись Анита, и тогда всю остальную вашу жизнь проведете во сне, если только бог, жалея вас, не пошлет вам еще кого–нибудь.
А что я такой, как будто бы дан городу богом, вы это можете усмотреть вот из чего: похоже на что–либо человеческое, что я забросил все свои собственные дела и столько уже лет терпеливо переношу упадок домашнего хозяйства, а вашим делом занимаюсь всегда, обращаясь к каждому частным образом, как отец или старший брат, убеждая вас заботиться о добродетели» [31].
Оценка себя как овода, приставленного богом к лошади, пусть большой и благородной, но обленившейся от тучности и нуждающейся в том, чтобы ее подгоняли, несомненно, отражает то истинное социальное значение, которым Сократ наделяет самого себя. Говоря современным языком, Сократ считает себя внутренним движителем своего общества, этакой его совестью, критикующей изъяны и пороки полиса, и тем самым понуждающей его изменяться и улучшаться.
Безусловно, сравнение Сократа поистине гениально, собственно, с него начинается история осмысления взаимоотношений интеллектуальных индивидов и общества в целом. Однако, оценивая это именно таком образом и поражаясь сократовской смелости и проницательности, следует отдавать отчет в том, что в контексте судебного разбирательства, данное сравнение звучало как некое обвинение полисного гражданства в неспособности самостоятельного движения к совершенству, как критика существующего строя, как обвинение стагнирующей демократии.
Последние моменты в понимании речи Сократа современниками, безусловно, усиливались тем, что тут же Сократ обвиняет то полисное большинство, что повинно в принятии плохих решений. Так, Сократ упрекает афинян за то, что они желали огулом осудить десятерых стратегов, которые не подобрали пострадавших в морском сражении при Аргинусских островах — судить незаконно, как и было затем впоследствии признано самими афинянами.
Тут, на контрасте с ошибающимся и морально слабым большинством, Сократ делает акцент на своей принципиальности и бесстрашии. Он говорит: «Тогда я, единственный из пританов, восстал против нарушения закона, и в то время, когда ораторы были готовы обвинить меня и посадить в тюрьму, и вы сами этого требовали и кричали, — в то время я думал, что мне скорее следует, несмотря на опасность, стоять на стороне закона и справедливости, нежели из страха перед тюрьмой и смертью быть заодно с вами, желающими несправедливости (выделено автором).