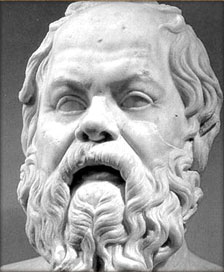у него оружие? Евтидем соглашается, что все эти поступки следует считать справедливыми. Но это противоречит предыдущему определению. Запутавшемуся в противоречиях Евтидему Сократ напоминает дельфийское изречение и рекомендует осознать свои способности и силы, прежде чем браться за государственные дела.
Хотя исследование справедливости и не привело к положительному результату, тем не менее в ходе беседы была предпринята попытка классификации поступков, оценки их в свете рассматриваемого нравственного понятия (справедливости). Кроме того, исследование показало, что один и тот же поступок не может быть безоговорочно отнесен либо к справедливым, либо к несправедливым, поскольку мы по необходимости оцениваем поступок в каком-то определенном отношении, в известных условиях места и времени. Но если это так, то со всей остротой встает вопрос о принципиальной возможности этики, определения этических понятий, в которых выражается объективная сущность (ousia) нравственного явления, например мужества, справедливости. И не правы ли были Протагор и другие софисты, считавшие общепринятые этические понятия и представления субъективными?
Сократ отдавал себе отчет в сложности проблемы. Определение понятий в этике, осуществляемое Сократом, служило опровержению этического релятивизма софистов. Не случайно Аристотель видел одну из главных заслуг Сократа в поиске им общих этических определений. Мы уже говорили, что для Сократа определить какую-либо добродетель (мужество, благочестие или справедливость) означало выяснить то, что есть «одно и то же во всем», т. с. найти в рассматриваемой добродетели то единое, которое охватывает все случаи ее проявления. Важно также подчеркнуть, что это единое (общее и тождественное), по учению Сократа, существует скорее реально, чем номинально. Точнее, единое, о котором идет речь у Сократа, имеет объективный характер, не зависит от сознания человека, от его субъективного состояния и настроения. Поэтому для Сократа этическое понятие есть не просто условный, номинальный термин для обозначения столь же условного явления нравственной жизни, как это вытекало из учения софистов, но, напротив, термин, отображающий объективно существующее: единое, общее и тождественное в данной добродетели. Становится понятным, почему Сократ выдвигал на первое место вопрос о «сущности вещи»: в определении добродетелей он усмотрел основное средство познания нравственной сферы и выход из трясины этического релятивизма софистов. Отметим также, что Сократ, исследуя этические понятия, преследовал конструктивную положительную цель — познание добродетелей через определение[9].
В установлении общих определений Сократ исходил из наблюдаемых в обыденной жизни (или же воображаемых) примеров человеческого поведения. И то, что Аристотель называет «индукцией» («индуктивными рассуждениями») Сократа, есть метод определения, метод отбора тех существенных черт, которые являются общими для поступков, получивших одну и ту же этическую оценку. Операция отбора позволяет восходить от единичных примеров и частных случаев к общим определениям, к «сущности вещи».
Здесь мы подходим к весьма важной стороне метода Сократа, знаменующей собой целый этап в истории диалектики как учения о единстве противоположностей. В самом деле, если определение понятия есть, согласно Сократу, определение сущности рассматриваемого предмета, т. е. выведение из многообразия рассматриваемых явлений того, что является в них единым, тождественным и общим, то отсюда следует, что сущность представляет собой единое во многом, постоянное в изменяющемся, тождественное в различном.
Однако Сократ не доходит до мысли о том, что, говоря словами В. Ф. Асмуса, «задача определения понятия состоит в уяснении не просто родового единства, а единства противоположностей между родовой общностью И видовыми особенностями» (3, 154–155). Словом, стремясь к определению понятия, Сократ подчас резко противопоставлял сущность явлениям, родовую общность — видовым отличиям. Так, например, он настаивал на том, что признак мужества «оставаться на своем посту и сражаться с врагом» («Лахес») не является определением мужества (так как имеется много других поступков, не сходных с названным, но не менее мужественных). Аналогично с этим Сократ считал, что «преследование преступника, обличенного в убийстве, святотатстве и в других подобных делах» (Платон. Евтифрон, 5 d), не есть еще определение благочестия.
Требование Сократа, чтобы определение было определением «сущности вещи», верно, но обнаруживаемая при этом тенденция исключать из «сущности» частные формы ее проявления приводила к большим затруднениям, не позволявшим установить, что же такое рассматриваемое понятие, каков его предмет (содержание). Столкнувшись с трудностью нахождения чистых определений («мужество само по себе», «справедливость сама по себе») и вместе с тем с необходимостью установления предмета рассматриваемого понятия, Сократ в одних случаях откладывал обсуждение вопроса до «следующего раза», в других — ограничивался косвенным ответом на вопрос о предмете исследуемого понятия. Такой косвенный ответ дается в ранее упомянутом диалоге Платона «Гиппий Больший», а также в диалоге «Хармид». В последнем, убедившись, что все попытки определить благоразумие не удались, Сократ решается на иносказательное определение этого понятия, которое, собственно говоря, оказывается не столько определением, сколько рассказом о некоем сне, подсказавшем ему, что самое главное и решающее для человека — это знание о добре и зле, умение отличать одно от другого. Это знание является, согласно Сократу, руководящим принципом в жизни, в поведении и воспитании. И никакое другое знание, кроме знания добра и зла, не может стать источником той гармонии душевных сил и нравственной деятельности, которая доставляет нам истинное блаженство и делает нас добродетельными и хорошими (kalokagathia).
Обращает на себя внимание еще одна своеобразная черта метода Сократа и всего его учения. В сократовской диалектике безуспешность попыток определения этических понятий сочетается с уверенностью в принципиальной возможности нахождения «всеобщего» в нравственности, постижимости всеобщей нравственной основы отдельных, частных добродетелей. Складывается впечатление, что эта уверенность покоится в свою очередь на убеждении в том, что каждый человек так или иначе владеет «всеобщим».
Свою задачу Сократ видел в том, чтобы «навести» собеседника на путь раскрытия содержания тех понятий, которыми владеет определяющий, но настолько смутно, что он не в состоянии дать им точное и всеохватывающее определение. Сделать это оказывается, впрочем, не под силу и Сократу. «Наведение» или «приведение» по-гречески обозначается термином epagoge. Это и есть «индукция» Сократа, его «индуктивные рассуждения».
Б. Индукция. «Индукция» Сократа — это то же, что и его «определение», с той лишь разницей, что индукция устанавливает общее в частных добродетелях путем их анализа и сравнения, а определение, решая ту же задачу, разделяет, кроме того, понятия на роды и виды, выясняет их соотношения.
Индукцией как методом восхождения от единичных примеров к общим определениям Сократ пользовался часто, причем настолько часто, что некоторые из его современников видели в этом забаву, считая примеры, к которым он обращался, недостойными внимания философа, чрезмерно банальными и не относящимися к существу дела. Так, Калликл в диалоге Платона «Горгий» с ноткой досады говорит Сократу: «Клянусь богами, без умолку, без передышки ты толкуешь о поварах и лекарях, о башмачниках и сукновалах — как будто про них идет у нас беседа!» (Платон. Горгий, 491 а). Аналогичен и рассказ Ксенофонта о Сократе (см. Воспоминания, I 2, 31–37).
Сократ широко использовал «индуктивные доводы» на всех этапах диалога, привлекая множество случаев и обстоятельств с намерением придать обсуждаемому вопросу ясный и точный характер. В этом отношении показательны ранее приводимые нами отрывки о мужестве из «Лахеса» Платона и о справедливости из «Воспоминаний» Ксенофонта. Мы видели, что Сократ постоянно исправляет своих собеседников, критикует их определения, показывая, что приводимые примеры мужества и справедливости недостаточны для определения соответствующих понятий. Сократ направлял собеседника на поиск этического общего, заставляя его изменять свое мнение и уточнять определения.
При этом привлекает внимание техника ведения беседы, виртуозно отработанная Сократом, который то и дело ловит собеседника на противоречиях, а также тщательно продуманный набор примеров, позволяющий выявлять моменты сходства в одних случаях и черты различия в других. Сократовская индукция и есть определение добродетелей путем установления в единичных и частных поступках сходства и различий.
5. Аналогия в индукции. Умелый отбор черт сходства и различия в разнообразии конкретных случаев позволял Сократу при индуктивных построениях искусно использовать в качестве аргумента аналогию. Так, в платоновском «Евтидеме» Сократ приводит ряд примеров, из которых следует, что знания и навыки, приобретенные моряком, врачом, воином или плотником, являются предпосылками их успешной профессиональной деятельности (см. Платон. Евтидем, 279 d — 281 е). Вместе с тем, исходя из того, что знания позволяют человеку избрать правильное поведение — правильное использование своих материальных средств, интеллектуальных способностей и физических сил, наклонностей и свойств характера, Сократ проводит параллель между успехом в профессиональной деятельности и удачей (счастьем) в моральном поведении. Иначе говоря, Сократ нашел в знании то общее, сходное, что объединяет два типа деятельности. Это и позволило ему сделать заключение, что «знание есть добро, а невежество— зло» (там же, 281 е).
То, что всякая аналогия рискованна, было известно Сократу. Более того, он одним из первых указал на это. Если в рассмотренном отрывке из «Евтидема» Сократ приравнивает успех в профессиональной деятельности к удаче (счастью) в моральном поведении, то в диалоге «Гиппий Меньший» он признает различия между этими типами деятельности и считает невозможным проведение между ними полной аналогии (Платон. Гиппий Меньший, 373 с — 376 с). Прибегая, как и всегда, к разнообразным примерам и допущениям, он показывает, что если, скажем, иметь в виду бегуна, то плохой бегун не обязательно тот, кто проигрывает состязание. Стало быть, плохой бегун — тот, кто, желая выиграть, проигрывает невольно. Соответственно хороший бегун — тот, кто в состоянии выиграть, но проигрывает добровольно.
Но если хорошим бегуном является тот, кто поступает плохо, т. е. проигрывает умышленно, то, спрашивается, что мешает нам распространить установленную связь между хорошими качествами и возможностью поступать дурно на область этического поведения и прийти к следующему общему выводу: «А не лучше ли намеренно совершать зло и поступать неправильно, чем делать это невольно?» (там же, 375 d). Таким образом, человек, умышленно совершивший зло, оказывается в моральном отношении лучше того, кто сделал это помимо своей воли и желания. Неприемлемость этого следствия для Сократа очевидна, хотя он и не говорит об этом прямо в заключительной части диалога. Очевидна для него и неправомерность полного приравнивания этического поведения к иным типам деятельности.
Итак, прибегая к аналогиям, сравнениям и сопоставлениям, Сократ соблюдал осторожность, оставался предусмотрительным: выделяя черты сходства в рассматриваемых явлениях, он не забывал о различиях между ними. Кроме того, Сократ сочетал индукцию с дедукцией: от найденного с помощью индукции общего положения он переходил к частным случаям, не входившим в индукцию. Это давало ему возможность проверять истинность общих положений, корректировать и уточнять полученные выводы и определения.
Казалось бы, мы имеем достаточные основания оценивать «индукцию» Сократа в духе индукции Ф. Бэкона и Дж. С. Милля. Однако такая оценка не совсем оправданна. Дело в том, что сократовская индукция в отличие от бэконовской и миллевской не выясняет причинные связи