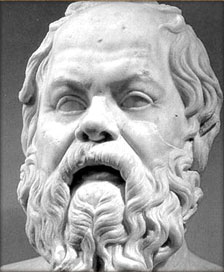был Анаксагор, который всегда предостерегал его от порывов гнева. И все же внутренняя дрожь охватила Перикла при словах скульптора.
– Что ты говоришь? Статуя из хрисоэлефантины? Слоновая кость, золото, драгоценные камни… И ее ты собираешься поставить в этом храме?!
– Полагаю, такой красоте там и место, – ответил Фидий.
– Мало тебе, Фидий, – гнев Перикла неудержимо возрастал, – мало тебе, что красота, о которой мы толкуем, возмущает и наших союзников, и Фукидида со всеми его сторонниками? Не знаешь разве, что такое – борьба за власть? Что такое заговоры против демократического правления?
Словно не слыхав этих слов, Фидий мечтательно проговорил:
– Лицо богини было похоже на твое, дорогая Аспасия. У нее было твое выражение, твой мудрый лоб, твои сияющие глаза…
– Ну нет, Фидий! – загремел Перикл. – Так нельзя! Аспасия мудра и прекрасна, но злоупотреблять этим не годится…
– Ты прав, мой дорогой, – подхватила Аспасия. – Не допускай этого! Мне и так уже не раз казалось, что у некоторых богов и героев, вышедших из-под резца Фидия, твои и мои черты…
– Удивительно ли это, если я почти каждый день у вас, если обоих вас чту и люблю? – возразил Фидий, защищая будущее свое произведение.
Перикл спросил, велика ли будет фигура Ники, которую Афина должна держать на ладони.
– Выше человеческого роста, семь-восемь стоп…
– Но тогда твоя Афина должна быть исполинской! – вскричал Перикл.
– В шесть раз больше, – спокойно ответил Фидий. – Меньшая потерялась бы в пространстве Парфенона.
– Ты страшный человек, Фидий. Ты хочешь погубить меня. Но на сей раз я не дам согласия! Подумать только – одеяние до пят, которого хватило бы на шесть скульптур, и все из чистого золота! Какая расточительность! Нет, нет, Фидий. Такой ошибки я не совершу!
Сократ ждал. С восхищением разглядывал статуи – бронза, мрамор, алебастр, – расставленные в перистиле под открытым небом и под навесом портика. Среди кустов рододендрона, осыпанных бледно-фиолетовыми и розово-алыми цветами, разгуливали белые павлины с хвостами, подобными веерам, на каждом пере – блестящий зеленоватый глазок, на маленьких головах коронки. Сократ следил взглядом за благородными коронованными птицами. Временами они издавали неприятные крики, которые мешали юноше слушать взволнованные голоса в том покое, где решался вопрос о будущей короне Афин.
Различая голос Анаксагора, Сократ радовался: присутствие учителя ослабляло чувство стесненности, охватившее юношу. По сравнению со спокойным тоном Анаксагора остальные три голоса звучали куда возбужденнее.
Знаком был Сократу и голос Фидия. Он слышал его приказы и пояснения, когда работал с отцом на Акрополе. Голос Фидия звучал четко и явственно даже среди перестука молотков, скрипа колес и воротов, среди ругани и перебранки на всевозможных языках… В этом голосе – почти всегда повелительность и увлеченность. Голос Фидия колеблется между этими двумя тональностями, меняется только его сила.
Софокла Сократ слышал впервые. По голосу не узнать, что этот человек потрясает толпы людей в театре; но даже и в обычном разговоре у Софокла то и дело слышался стихотворный размер.
Разобрав, о чем говорил Перикл, Сократ затрепетал. Он понял, какой силой обладает этот с трудом сдерживаемый голос прирожденного оратора, покорявший всех, кто его слушает. Алкмеонид… Род, чьи корни уходят в глубокую древность. Слава и проклятие сопровождают его до сей поры. В голосе Перикла Сократ уловил восхищение Парфеноном и Афиной Фидия, – восхищение, которое тем ярче подчеркивает крайний ужас: ведь словами своими Перикл предает себя в руки врагов…
И у Сократа сжалось сердце, когда он услышал это резкое, выкрикнутое с болью: «Нет, нет, Фидий. Такой ошибки я не совершу!»
А среди этих мужских голосов, не забывающих, что сейчас они обращаются отнюдь не к тысячным толпам народного собрания, звучит мягкий и теплый голос Аспасии. Да ведь это кощунство – так подслушивать, но могу ли я не слушать? Быть может, после не решусь взглянуть им в глаза…
И, не отдавая себе в том отчета, Сократ напрягает слух. Говорит Перикл. Говорит вполголоса. Сократ не разбирает слов, не может разобрать, но вот голос Перикла повышается, окрашиваясь глубоким внутренним волнением:
– Я что – краду? Как могут столь превратно истолковывать?.. Зову в свидетели все Афины! До конца жизни не возьму из союзной кассы ни единой драхмы для себя! Притесняю собственную семью, вызывая ее ропот. Мой домоправитель Эвангел отмеряет им все до обола… Почему? – удивляетесь вы порой. Я вам скажу почему. Я стал на сторону народа, я предпочел бедное большинство богатому меньшинству. Неужели же я сделал это, чтоб обогащаться за счет бедноты? Чтоб извлечь корысть из убеждения, что народ и есть та сила, которая может принести Афинам величайшее могущество и славу? Чего бы я после этого стоил? Такой мелкой, такой жалкой цели не может ставить перед собой Перикл! И тот, кто утверждает это, – лжец. Законы Дракона установили смертную казнь за украденное яблоко! Какого же наказания заслуживал бы тогда я?
Слышит Сократ страстный порыв Перикловой души и впервые убеждается в правоте того, что говорят о Перикле: будто на языке его – грозные молнии.
– Смертью не искупил бы, столь велико было бы такое преступление перед афинским народом, что и не придумать закона, который достойно покарал бы за это! Народ? Что он такое – бездушная масса, без глаз, без сердца? Нет, о нет! Это глаза, слившиеся в одно исполинское око, тысячи сердец в театре Диониса, сплавленных в одно великое сердце. Спесивый богач зовет на пир нескольких друзей, кормит, пока те едва не лопнут, вином поит, под конец предлагает развлечение: фокусник, флейтист, в придачу обнаженная танцовщица, – и гости на седьмом небе. Но для исполинского ока народа, для его великого сердца такого зрелища мало! Народу нужны театры, где могут поместиться тысячи, его требования тысячекратно превышают запросы пирующих. Народу мало одного актера на сцене, одного певца – он желает, чтоб были целые хоры, хоровая декламация, пение, танцы, диалоги, единоборство больших идей… – Перикл посмотрел на Софокла. – Да, милый Софокл, ты это хорошо знаешь. Недостаточно просто пощекотать чувства народа. Он хочет участвовать в борьбе свободной воли человека против слепой судьбы, он желает, чтоб его захватил вихрь страстей и красоты. Вот что нужно огромному оку и великому сердцу народа! Кровь, слезы, смерть, кара, искупление – и равные всему этому смех и радость. Жить жизнью героев! Страдать с ними, с ними побеждать. Рыдать в экстатическом упоении державной красотой, головокружительной глубиной мысли… Никакой одиночка в мире – только народовластие может удовлетворить самого требовательного зрителя – народ, его исполинское око и великое сердце…
Тихо слушают друзья Перикла. Фидий напряжен до предела. Догадывается – Перикл, говоря о театре, имеет в виду и Парфенон, и его Афину. Но Анаксагор заразил его неверием в богов… Неужто отвергнет мои планы?!
Пристально вслушивается Сократ, даже рот приоткрыл: что же даст Перикл огромному оку, великому сердцу народа?
Взгляд Перикла еще не отпускал Софокла:
– Театр для тысяч зрителей поднимает дух, гонит прочь тоску тысяч, театр силой духа и слов повышает духовный уровень тысяч. Не то у варваров: властитель – бог, и далеко внизу под ним – получеловек, полуживотное. Почему мои недруги обвиняют меня в славолюбии? Почему? Да ведь дело вовсе не во мне! Народу не желают они давать то, что дает ему моими руками народовластие, а народовластию они не желают дать то, что дает ему народ! Вот в чем причина. И в этом я твердо уверен.
Перикл перевел взгляд на Анаксагора.
– Мне стыдно за минуту слабости. Она виной тому, что в памяти моей всплыли злой рок и давнее проклятие. – Теперь он посмотрел на бледного, трепещущего Фидия. – Величие и красота Парфенона покорили меня, покорила твоя Афина, Фидий! Ныне Афины принадлежат всему народу, а потому будет принадлежать ему их царственный венец – Парфенон и великолепие богини Афины. Ты великий художник, Фидий, великий скульптор, архитектор, ты повелитель материи и пространства. Я дам столько мин, сколько тебе понадобится. Дам эти мины и таланты – и знаю наперед: экклесия одобрит все расходы с энтузиазмом. Экклесия сердцем почувствует, что красота возвышает человека; чтоб ослепить его, она должна быть ослепительной, целый мир красоты должен окружать человека…
Затаив дыхание слушал Сократ эту исповедь Перикла. Целый мир красоты должен окружать человека, чтобы возвысить его…
– Все, чем мы хотим возвеличить наш город, должно быть исполнено единого духа. Я долго думал – и не нахожу лучшего исполнителя для этого, чем ты, Фидий.
– Я боялся, что ты назовешь мое имя, дорогой Перикл, и в то же время желал этого.
Перикл подошел к Фидию и крепко обнял его.
– Возрадуемся! – сказал Софокл. – Нынешний день прекрасен.
– А что же ты молчишь, Анаксагор? – спросила Аспасия.
– Я ожидал, прекрасная, твоего вопроса: почему не возразишь ты против храма и статуи, – ты, который учишь нас, что богов нет?
– Ты с нами не согласен?
– Согласен полностью. Я против того, чтобы человек позволял угнетать себя верой в богов, которых выдумал сам. Но могу ли я быть против того, чтобы старые эти басни стали поводом для создания произведений искусства? Да еще столь блистательных, какими будут Парфенон и Фидиева Афина? Ведь эти старые боги с маской вечной юности взросли на земле Эллады, как смоквы или оливы. И если Фидии населят наш мир мраморными божествами, я и сам уверую в их могущество – через красоту…
– Отлично, дорогой Анаксагор, – подхватил Софокл. – Наша жизнь вся пронизана мифами, в них – древние корни фантазии наших Гомеров и Гесиодов, и мы, создатели трагедий, черпаем из того же источника.
Каждое слово было теперь слышно Сократу, и он вспомнил слова Анаксагора о том, что художник, даже зная, что солнце всего лишь раскаленный камень, вправе представлять его себе в облике Гелиоса, катящего на золотой колеснице по голубому ипподрому небес. Да, боги – творения человека, и фантазия художника преобразует их в творения искусства…
По мере того как раб зажигал масляные лампы в канделябрах, выступало из темноты помещение для ужина. Сократ не решался поднять глаза на тех, кого он невольно, не видимый ими, подслушивал. Труднее всего было смотреть ему на Перикла, чьи исповедь и признание он только что выслушал. И он искал прибежища для своего взгляда у Анаксагора. Старался разогнать свою стесненность.
Анаксагор улыбнулся:
– Мы с Сократом старые друзья. Ходим по утрам гулять вдоль берега Илисса, пасем там его Перкона. А так как при этом мы еще философствуем, то порой забываем про осла и уходим домой без него, правда?
Аспасия и Софокл рассмеялись. Сократ покраснел.
– А потом он, – Анаксагор кивнул на Сократа, – во все лопатки мчится за ослом, и мне приходится продолжать путь в одиночестве…
Аспасия, еще смеясь, проговорила:
– По крайней мере, Сократ, ты иногда веселишь немножко нашего не в меру серьезного мудреца. А бывать с ним для