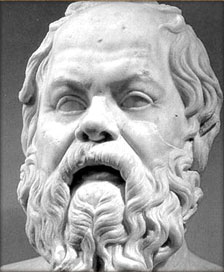из Алопеки, теперь входит в город, пересекает Мелиту…
Между тем в зале суда Гиппарета, в невыразимом напряжении ожидавшая мужа, почувствовала себя дурно. Принесли воды, охладили ей виски, судья исчерпал уже все слова ободрения. Он больше не надеялся на то, что Алкивиад все-таки явится, и устал выдумывать все новые и новые утешения. Сейчас он и сам в них нуждался. Знал – Алкивиаду предстоит вскоре стать во главе государства, а он, несчастный архонт, не сумел помирить его с женой, как то следовало и надлежало…
Алкивиад не ответил на уговоры серьезные – Сократа и ехидные – Крития подчиниться закону и отправиться в суд. Вместо этого он набросил на плечи хламиду, сколол ее пряжкой и пустился в танец… Танцуя, дошел он до калитки и весело помахал друзьям на прощание.
Когда он скрылся из виду, Критий промолвил:
– Ужасный человек. Даже не дождавшись развода, помчался к гетерам праздновать это событие…
Служитель вбежал в зал суда и сокрушенно доложил, что ему не удалось привести Алкивиада.
– Он просто выгнал меня…
– А ты-то что же? – взъелся на него архонт.
– Он пригрозил разбить мне голову кувшином, я спасся бегством…
Отчаянный вопль Гиппареты предварил ее горькие причитания:
– О я злосчастная! Он не придет! Как я несчастна! Он меня не любит! – Звеня браслетами, она заломила свои холеные руки. – О, зачем я потребовала развода! Какой злой демон внушил мне эту мысль! – Гиппарета пала на колени, в мольбе протянула руки к архонту. – Злосчастная, я хотела только пригрозить ему разводом! Надеялась – он поймет, признает недостойность своего отношения к любящей жене, к матери двух сыновей, которых я ему родила! Надеялась, он исправится, бросит кутежи, озорство!
– Мне очень жаль, но суд уже ознакомился с твоим требованием, доказательств достаточно, и потому, дорогая Гиппарета, нам не остается ничего иного, кроме как удовлетворить твою просьбу о разводе… – сломленным голосом сказал судья.
Гиппарета повалилась как подкошенная, рыдала, кричала в отчаянии:
– Убейте меня! Я не хочу жить! Я не хочу жить!
В зал влетел Алкивиад.
– Что ты тут делаешь, милая? – раздался над нею его голос. – Хочешь в царство Аида? Откуда такое сумасбродное желание, когда в моем доме для тебя – настоящий Элисий?
И прежде, чем женщина успела опомниться, прежде, чем судья сумел выговорить слово, Алкивиад подхватил Гиппарету на руки и выбежал с нею на площадь.
– Эй! Граждане! Глядите! Алкивиад! – раздались голоса в толпе, вечно бездельничающей на агоре.
– Что это он несет? – Кучка зевак побежала за ним.
– Клянусь Зевсом! Собственную жену!
Гиппарета отбивалась, выкручивалась, била ногами, отталкивала его голову, кричала – не помогало ничего! Алкивиад бежал по городу, неся ее на руках, и за его плечами развевалась хламида и распустившиеся волосы его жены. Ее несшитый пеплос распахнулся, и восхищенным взорам толпы открылись ее белые ноги. Смех провожал их. И веселые крики:
– Похитил собственную жену!
Кучка любопытных и шутников, следовавших за Алкивиадом, разрасталась с каждым шагом.
– Молодец Алкивиад!
– Отлично, Алкивиад!
– Вот поступок настоящего мужчины!
Поняв, что сопротивление бесполезно, Гиппарета обхватила мужа за шею, а он на бегу целовал ее до самого дома.
Афины ликовали! Афины смеялись! Афинам представился редкостный спектакль!
Весть о похищении Гиппареты летела по городу. Долетела она и до Сократа, все еще сидевшего с Критием под платаном. Сократ хохотал так, что едва мог связно выговорить:
– Вот так выходка! Ну и выходка, ах ты шалопай эдакий! Какие там суды! Иди ты в болото, архонт! И ты, Гиппарета! Ты любишь меня, я люблю тебя – выкраду, как жених невесту, и будем мы снова как молодожены!
– Да, шутка неплохая. Есть чему смеяться, – сказал Критий. – А нет ли тут, дорогой Сократ, еще одной причины для смеха?
– Глядите-ка! – не успокаивался Сократ. – Хочешь мне, повивальной бабке, помочь родить? Уже перенял от меня это искусство?
– Я перенял побольше, чем это. Однако испытывать на тебе свое повивальное искусство я бы не осмелился. Но, как кровный родственник Алкивиада, я рад и думаю, что и ты, его друг, радуешься его ловкости и сообразительности. А то ведь еще немного – и он из-за разлада в семье потерял бы популярность среди порядочных афинян. Сегодня же, утащив Гиппарету из зала суда, он завоевал сердца многих. С его стороны это был отлично рассчитанный ход перед выборами.
Сократ слушал, задумавшись, и задумчиво произнес:
– Я и радуюсь.
– Тем более он сделал это на виду у всех. – Критий подсластил свою кислоту. – Мы-то знаем, как оно бывает. Ведь за каждый удачный шаг Алкивиада люди хвалят тебя, его учителя.
– Но тем самым ты хочешь сказать, что за каждый его неудачный шаг они же меня бранят, – сказал Сократ.
– С чего бы им тебя бранить? Алкивиад слушает тебя с благоговением: твое слово и его дело – едины. Это он показал недавно. Ты осуждаешь аристократов за то, что они презирают бедняков; Алкивиад же, наш будущий стратег, желая доказать, что твое мнение, противное аристократам, он усвоил полностью, что ему чуждо присловье аристократов «бедность дурно пахнет», накрыл богатые столы и впустил к себе в дом всех голодных, нищих, сирот павших воинов и тех, кто неспособен трудиться из-за недугов, безруких и одноногих… И сам пировал, пел с ними, ничуть не смущаясь тем, что люди эти не мыты и не натерты благовонными притираниями. Одним словом, он отлично умеет добиваться благосклонности народа.
Сократ устремил на Крития взгляд своих больших глаз:
– Я непонятлив, милый Критий. Скажи мне, ты хвалишь Алкивиада или поносишь его?
За оградой кто-то приглушенно засмеялся. Критий вздрогнул; но больше ничто не нарушало тишины, и он успокоился. А за оградой сидел Симон, записывал высказывания Сократа – он часто так делал.
С хорошо разыгранным восхищением Критий ответил:
– Можно ли поносить Алкивиада? Этот необыкновенный человек способен привлечь к себе кого угодно, прямо-таки очаровать… – И льстиво добавил: – Так же как и ты, Сократ. Злой человек счел бы, что Алкивиада следует предать суду гелиэи за его необузданные выходки, – тебе не кажется? Но ведь ни ты, ни я – не злые люди. Ты выбираешь самые мягкие выражения, говоря о его своеволии, ты находишь все это просто проявлением его непосредственности, а люди, часто слушающие тебя, привыкли перенимать твою точку зрения. Однако, боюсь, то, что к лицу юноше, не подобает мужу и стратегу.
Сократ воздел руки:
– Клянусь Герой, я разделяю с тобой это опасение, мой милый! Боюсь – не избрали бы Алкивиада стратегом слишком рано… Ты говоришь – муж. Да, ему тридцать один год. Но в нем столько еще милой детскости и наивной игривости… Взгляни на него – увидишь лицо, сияющее счастьем и любовью…
Критий до крови закусил губу.
– Почему ты смотришь на меня так пристально, Сократ?
Тот снова поднял руки и дал им опуститься на стол:
– Думаю об Алкивиаде – вот и смотрю на тебя, который о нем говорит.
– И видишь, что мое лицо не сияет счастьем и любовью, – вызывающе сказал Критий. – Кивни же, кивни! Не бойся меня. Скажи правду! Я отталкиваю всех… Даже этот молокосос Эвтидем меня не любит. Ни из приличия, ни из вежливости не обнаруживает ко мне расположения – ни в какую! Нет в Афинах никого, кто любил бы меня, когда рядом ослепительный Алкивиад…
В эту минуту Сократ понял, как чужд ему, как далек от него этот человек, горький словно полынь.
– Этого нам не изменить, милый Критий. Это дело натуры… Людям всегда больше нравится лицо, озаренное любовью и приветливостью…
– Чем то, на котором написаны ненависть и угрюмость…
– Зачем такие резкие слова?
– Они – сестры тех, что сказал ты.
Сократ подумал: эта ненависть теперь и ко мне… Нет, не только теперь. Давно уже. И стало ему неприятно быть рядом с человеком, у которого ненависть уже не только в сердце, но и на устах.
– Мы забываем пить, – сказал он, наполняя обе чаши; потом мягко обратился к собеседнику: – Видишь ли, Критий… Я ведь учил вас обоих одинаково…
– Нет! – вырвалось у Крития. – Его – больше!
– Он сам большему научился у меня. Быть может, и тому, как привлекать к себе людей. – Сократ пригубил вино, слегка причмокнул. – В сущности, сегодня мы все время говорим об Эроте: о любви человека к человеку, к женщине, к любимцу. Кстати, отнюдь не все Афины любят Алкивиада, это преувеличение. – Гнев овладевал Сократом. – Достаточно наберется таких, кому он противен до глубины души. Но он, невзирая на это, ни на кого не давит; ты же, Критий, видишь, что Эвтидем тебя отвергает, но пользуешься всяким случаем потереться об него, как свинья о забор…
Критий опешил. Сжал руками доску стола, глаза его налились кровью. Поджав губы, он заговорил ядовито, злобно:
– Наконец-то, Сократ, искреннее слово! Я давно понял, что ко мне ты испытываешь не те чувства, что к остальным ученикам, и в особенности к Алкивиаду…
Сократ хотел что-то сказать, но Критий резко перебил его:
– Я еще не кончил! Особенно к Алкивиаду, в которого и ты влюблен. Молчи! Я знаю. Вот почему ты его – хотя он моложе меня – выпестовал и поставил на то место, где должен был стоять я!
– Выпестовал, милый Критий, не отрицаю. Но – поставил на какое-то там место? Так может сказать лишь тот, кто сам в душе насильник. Молчи теперь ты! Кто знает, быть может, и ты когда-нибудь станешь стратегом – тогда я пожелаю тебе допускать насилие единственно словом и единственно ради доброго дела. – Сократ вздохнул. – Ах, если б мог я провидеть будущее – что каждый из вас двоих принесет нашей родине?!
– Ты часто говоришь как провидец, а мое и Алкивиада будущее видишь недостаточно ясно?
Сократ встал.
– Будущее таит в себе чудеса красоты и блага, но творцы их – те, кто обращает к нему свое воображение, свою фантазию, смелые помыслы, поэтическую образность…
Поднялся и Критий.
– Но из нас двоих разве не я – поэт? – Гордой поступью он двинулся к калитке и там еще обернулся. – Мне больше нечего искать у тебя, Сократ, если ты видишь во мне свинью. Наш диалог пока закончен.
Когда Критий ушел, над оградой появилась взъерошенная голова Симона.
– Опять подслушивал? – укоризненно спросил Сократ. – Да? И что скажешь?
– Оба они одинаковые – равно страстные, упрямые, неукротимые…
– Спасибо за ободрение, – иронически молвил Сократ.
17
Над Грецией – одно небо, голубое, как цвет василька, один свет – прозрачнейшее сияние; один у Греции Олимп, населенный народцем богов и богинь, которые все пропахли человечьим духом, как морской причал – запахом рыбы. Одни Дельфы в Греции, которым открыто будущее. Один язык в Греции – в нем так мало различий, какую область ни возьми, – но нет у нее единой идеи, одной общей цели.
Войны обостряют классовые раздоры и борьбу за власть; эти обостренные споры в свою очередь разрешаются остриями копий и мечей. Страна, оскудевшая, опустошенная войной, ищет обогатиться и возвыситься