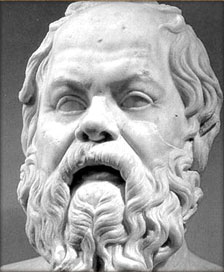Всему виной твой неуемный язык, вечно ты всем недоволен, вечно судишь всех и вся…
– А разве это дурно?
– Милый дядюшка Мом, – сказала богиня. – Тебе и на земле-то трудненько бы приходилось с такой ехидной натурой, а уж что говорить об Олимпе, где нет афинской демократии…
– Ни афинской, ни небесной, – сварливо перебил ее Мом. – Олимп – и демократия! Ха! Олигархия, да что я говорю – тирания!
Богиня предостерегающе подняла руку:
– Осторожней, Мом!
Тот спохватился – ведь Артемида сама принадлежит к высшей небесной олигархии – и заговорил извиняющимся тоном:
– Ты – исключение, дорогая. И твой брат Аполлон – тоже. Но остальные-то? Гера, Афина, Посейдон, Арес, Афродита…
Едва имя богини любви коснулось слуха Артемиды, она опустила руку на рожки мраморной косули, всюду ее сопровождавшей, и попросила:
– Расскажи мне, как это вышло с твоим… скажем, уходом с Олимпа! Говорят, ты бранил Прометея, создателя человека, за то, что он поместил сердце в его груди? И будто упрекнул Прометея: раз сердце человека скрыто, никто и не видит, что в нем кроется, и от этого в мире много зла. И еще будто ты нелестно отозвался об Афине и даже о самом Дие. Но мой брат Аполлон рассказал мне, что Зевс изгнал тебя за то, что ты якобы порочил красоту его дочери Афродиты.
– А с какой стати мне было ее щадить? – удивился Мом. – Я – бог насмешки и глупости в одном лице. Было так, как ты говоришь. Зевс повелел: «Внимательно осмотри это божественное создание, страшно мне любопытно, найдешь ли ты, придира, хоть малейший изъян в красоте моей дочери». Все стихли. Ага, думаю, ловушка! И отвечаю: «Погоди, дорогой Дий! Какую красоту ты имеешь в виду – тела или души?» Афродита презрительно фыркнула, а Зевс разбушевался. «Ступай в болото, Мом, со своей душой! Это сумасшедшие афинские философы выдумали такое учение, и, как мне донес Гермес, оно ширится, словно сам Эол раздувает его по земле. Мне это не нравится, похоже, что человек хочет возвыситься над нами, богами. Этот мятежный человечий дух долетает уже и сюда, на вершину Олимпа! Я говорю о красоте тела. Смотри и суди!» Ну, смотрю, разглядел девчонку спереди, сзади – никак не найду никакого изъянца. Белая, пышная, как морская пена, кожа что тебе косский шелк, никаких недостатков…
Артемида пренебрежительно рассмеялась:
– Эх ты, бог издевки, вечно ищешь недостатки, а тут промахнулся! А ее пропорции?!
Мом осклабился:
– Это и есть то единственное, в чем я попрекнул Афродиту!
– И правильно, – заносчиво заметила Артемида. – Была бы я одной из трех богинь перед судом Париса – яблоко досталось бы мне!
Мом ехидно возразил:
– Не бахвалься, малышка. Я-то давно торчу здесь со своим недоделанным лицом и помню, как Софрониск только начал рисовать и высекать тебя. Знай: твои прекрасные ноги взяты с пятнадцатилетней рыбной торговки – клянусь Герой, весь дворик провонял рыбой, когда она сюда приходила. Твою грудь Софрониск приглядел у тринадцатилетней цветочницы с агоры, а лицо твое высечено по образу некой гетеры, которую сюда приносили в носилках рабы, чтоб ты знала.
– Благодарю за новости, – кисло сказала богиня. – Ну и что, хуже я от этого? Важно, что получилось, знаешь ли! – надменно закончила она.
В этот миг, словно пучок стрел, упали на Артемиду лучи солнца, ослепив ее.
– Что это? – испугался Мом. – Ты горишь! Горишь белым пламенем! Ты вся – пламя и жар…
Артемида блаженно засмеялась:
– Это брат! Феб Аполлон! Никогда не забывает о нашем общем дне рождения и всегда бросает мне букет лучей.
Богиня послала Фебу воздушный поцелуй и помахала ему рукой. Из дому выбежала соседка Мелисса, жена сапожника Лептина, бросилась к каменной ограде:
– Ноксен! Ноксен!
Из-за ограды отозвался мальчишеский голос:
– Что, мама?
– Слетай на агору за Софрониском! Он там устанавливает мраморную колонну! Пускай бегом бежит домой, жена его умирает…
Мелисса повернулась, опустилась на колени перед Артемидой:
– Благородная, благодатная, светлая! Смилуйся над Фенаретой! Ей все хуже и хуже… Стольким матерям в Афинах помогла счастливо разродиться, а сама не может… Помоги, помоги ей, покровительница рожениц!
Вопль страдалицы поднял Мелиссу с колен.
– Отчего же ты ей не поможешь? – проворчал Мом. – Это ведь твоя работа. Оттого что справляешь – в который раз – свой двадцатый день рождения, так и оставишь несчастную в беде?
– По-твоему, я не знаю, что и когда мне делать? Опять ты всюду суешь нос, опять все не по тебе! Вот тебя и не любят. И Зевс за это прогнал тебя с Олимпа…
– А разве я не прав? Там в тебе нуждаются, а ты тут вертишься передо мной – все бы тебе хвастать, что задочек у тебя прямо два финика, не такой объемистый, как у Афродиты!
– Молчи, злоязычный! – прикрикнула на него Артемида.
– И разве я не прав, осуждая то, что мне не нравится?
– Важно, как ты это делаешь. Издеваешься, поносишь, а можно ведь и иначе – без оскорблений да насмешек!
Мом парировал вопросом:
– А ты видела хоть кого-нибудь, кто умел бы так делать?
– Не видела, – созналась богиня. – Ни среди богов, ни среди людей. Судить легко – а ты укажи на дурное, да при этом подай совет, как обратить дурное в хорошее, – вот было бы замечательно! Ну, может, родится такой человек, сумеет так… Может, им будет как раз тот человечек, что рождается сейчас…
– Хотел бы я посмотреть, – съязвил Мом.
Отчаянный вопль роженицы нарушил безмятежность ясного дня.
Облачка пыли с немощеных улочек дема Алопека взметывались из-под босых пяток мальчика; на агоре его подошвы прошлепали по гладким плитам мостовой.
Рванули слух пронзительные звуки военных труб на Акрополе. Ибо сегодня – в шестой день месяца Фаргелиона, в четвертый год семьдесят седьмой Олимпиады, при архонтстве Апсефиона, более того, в день рождения богини Артемиды и бога Аполлона – глашатай возвестил:
– Наш полководец Кимон с афинским флотом разбил персов в Памфилии, у реки Эвримедонт! Архонт приказал угощать в пританее всех пришедших, кроме метеков и рабов!
С ликующими кликами «Афинам и Кимону – слава!» хлынула толпа в пританей. Каменотес и скульптор Софрониск от радости хлопнул тяжелой лапой по плечу своего помощника Кедрона:
– Слыхал, телепень? И в такой день у меня должен родиться ребенок! Давай живее! Успеть бы хлебнуть да закусить в пританее…
Солнце поднялось выше. Агора – прямо улей. Гефестова кузница в недрах Этны. Гул, звон, крик, зной.
– Слава Кимону!
– Слава!
– Гляди не надорвись! Нынче в славе, а завтра в канаве – как всегда…
– Молчи, свиное рыло! Воду мутишь – а жрать да вино хлестать со всех ног бежишь, так?!
Софрониск перекрикивает всех:
– Мой ребенок родится в счастливый день! Такой день! Какая честь!
– Мой муж вернется с войны… – грустно говорит рыбная торговка.
– Узнает, что ты путалась с этим проходимцем Сосией, и морду тебе набьет!
– А тебе что? Свою грязь подбирай! От вас по всей улице течет…
Добежал запыхавшийся мальчик:
– Софрониск, скорей домой!
– Что случилось? – вырвалось у того с испугом.
– У Фенареты уже нет сил… Хочет проститься с тобой… Умирает…
Софрониск уронил молоток.
– Кедрон, убери инструменты…
Бросился со всех ног.
На бегу отвечает людям – ибо кто же не знает, что повитухе Фенарете приспело время?
– Стольким женщинам помогла… А ей-то кто поможет?
– Теперь ей самой нужна какая-нибудь Фенарета…
– Пойдем с нами, выпьем! – кричат Софрониску уже захмелевшие на радостях.
– Не могу – жена умирает…
Соседки окружили изваяние богини Артемиды, залитое солнечным сиянием. Стоят на коленях, причитают, молятся.
– Артемида! Илифия! Покровительница рожениц! Не оставь Фенарету! Дай жизнь ее ребенку за те тысячи детей, которых она помогла родить!
В доме смолкли крики. Прекратились боли, выталкивающие плод. Зловещая тишина.
С Акрополя сюда долетает рев труб, усиливая напряжение. Слышно тяжелое дыхание Фенареты. Видно ее искаженное лицо, огромный живот, клепсидру в лучах поднимающегося к зениту солнца – капли отсчитывают страшные секунды – и устремленные к двери глаза роженицы, в которых написан ужас. Что же он не идет?!
Софрониск добежал, ворвался во двор через калитку с надписью «Зло, не входи!», лавируя меж мраморных глыб и торсов, разбросанных под сенью платана, влетел в дом – без дыхания пал на колени у ложа, прижался лбом к холодной руке жены.
– Хотела еще увидеть тебя, Софрониск… – Голос ее слабеет.
Муж рыдает – женщины выпроваживают его во двор.
Обложили роженицу амулетами, травами и снова вышли преклонять колени перед Артемидой, повторять свои мольбы и плач. Напряжение невыносимо. Около Фенареты остались только соседки – Мелисса и Антейя. Склонились над ложем.
И случилось это ровно в полдень. Пронзительный крик вырвался из груди страдалицы. Мелисса приняла ребенка – толстенького, розового, с большой головой. Антейя выбежала на порог:
– Родился! Мальчик!
Какое мгновение!
Муж Мелиссы, сапожник Лептин, перелез через ограду, прижал Софрониска к груди:
– Вот теперь выпьем! Да неразбавленного! Сын у тебя, понимаешь?! И явился он на свет как раз когда Гелиос в зените!
Софрониск ликующе кричит солнцу:
– Разом две жизни подарены мне! Фенареты и сына!
Носят подарки родильнице. Купают младенца и так его хвалят, что и во дворе слыхать:
– Какой здоровяк! То-то намучил маму! А глазки-то какие большие! И лобик до чего высокий! А вон на плечике круглое родимое пятнышко… На что похоже? На медовую лепешку? Нет, нет – на солнышко!
Да! На солнышко!
Мелисса вынесла выкупанного младенца во двор – показать отцу. Софрониск поднял его на вытянутых руках, тем самым, по древнему обычаю, признавая ребенка своим сыном.
Артемида вскричала:
– Удачной охоты, мальчуган!
Мома прямо передернуло:
– И что ты выдумываешь! Это сыну-то афинского каменотеса охотиться на зайцев, оленей или кабанов? Подобная блажь могла возникнуть только в твоей голове. Кому ж еще думать об охоте при рождении ребенка, как не богине охоты, ха-ха-ха!
Но Артемида осадила Мома:
– Но, дядюшка Мом, разве охотятся только на зверей? Человек всю жизнь за чем-нибудь охотится. Каждый час, каждый день его улов – всякое знание, всякая частица красоты! Человек и человека уловляет… Жизнь – нескончаемая ловитва, запомни!
Неистово пылающий полдень осыпает розовое тельце новорожденного золотыми молниями. Дитя сморщилось, шевельнуло губками – что сейчас будет? А, заплачет, как все… Но нет! Дитя открыло беззубый ротик и громко засмеялось.
Невиданно! Отец в изумлении уставился на ребенка. А женщины загомонили:
– Ах, бездельник! Со смехом явился на свет!
– Нравится ему, видать, на свете-то!
– Я пятерых родила – и каждый раз сколько реву!
– Мои дети тоже плакали – все…
– А этот малыш, едва вылез из материнского чрева, уже смеется!
– Ох и озорник же вырастет!
– Какое имя ему дашь? – спросил Лептин.
– Мой дед тоже озорной был. Назову по нему – Сократом.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Речка Илисс течет под стенами Афин, огибает их с юга и впадает в Кефис.
Неглубок Илисс, его излучины вдаются в луга с невысокой травой и рассеянными кое-где кустами и глыбами камня; в одном месте берег поднялся невысоким холмом, и стоит на том холме платан, а под платаном – маленький алтарь с деревянной фигуркой Пана, осыпанной цветами. Долинка, по которой ползет Илисс, – аркадский сон, пастушеская идиллия, и никого бы не