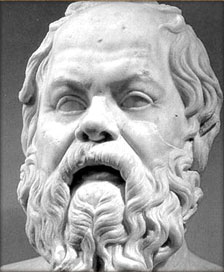дорогой, за то, что я думаю, но ведь это, конечно, неправда!
– Не мучь мальчика, – укорил Сократа Критон. – Почему ты насел именно на него?
– Потому что все вы упрямо молчите! – вспыхнул Сократ. – А он – скажет!
Аполлодор весь дрожал при мысли, что вот Сократ трудился всю жизнь, стараясь сделать людей лучше, а углубляющийся упадок Афин сводит на нет весь его труд. Так, может, он напрасен, этот Сократов труд, не нужен? Имею ли я право высказать это, когда он ничего уже не может сделать, смею ли так огорчить его?
– Я буду любить тебя всю жизнь! – вырвалось у него.
Сократ мягко улыбнулся ему:
– В таком случае ты, конечно, докажешь свою любовь и теперь и ответишь: достаточно ли одного знания, чтобы люди сделались справедливыми и добродетельными, – достаточно ли для того, чтоб им было хорошо, а с ними и всему обществу?
– Недостаточно… – одним дыханием вымолвил Аполлодор.
– Будь благословен, мой маленький, – облегченно вздохнул Сократ. – Ты первый взял от меня мою боль, а уж если ты сумел это сделать… – Он обвел глазами остальных.
– Но боль твоя слишком велика, – сказал Критон. – Велика для тебя и для всех нас, вот почему мы ее испугались…
– Нет, добрый мой друг, – возразил Сократ. – От боли мы не должны убегать – мы обязаны познать и ее целиком. Все то, над чем я бился всю свою жизнь, не привело к тому, на что я надеялся, на что надеялись и вы. Для блага отдельного человека и для блага всего общества требуется еще нечто совсем иное.
– И ты, дорогой учитель, не знаешь – что? – спросил Платон.
Сократ взволновался, кровь бросилась ему в лицо:
– Не знаю! Обо что я споткнулся? В чем кроется мой неуспех? Прежнее мое утверждение – «знаю, что ничего не знаю», когда-то имевшее целью подтолкнуть людей, чтоб они стремились узнать как можно больше, – сегодня, милые, получает иной смысл; сегодня это мое «не знаю» меня… удручает.
Они придвинулись ближе к Сократу, но не могли найти, чем его утешить. Он заговорил сам:
– Равновесие мира нарушено. Давно уж. Это противоречие, сначала просто трещина, постепенно превращается в бездну, которая разрывает надвое государства и людей. – Возбуждение Сократа нарастало, все более пугая друзей. – Тартар, о котором рассказывают, что он – в недрах подземного царства и назначен в вечное наказание страшнейшим преступникам, – Тартар оказался здесь, в Афинах, и страдают в нем живые люди, взрослые и дети, существа совершенно невинные. Должно ли так быть? Устранил ли я своими беседами этот нарыв на теле нашего великолепного города? Могут ли обитатели этого Тартара жить красиво, как представляю себе я и как представляете вы со мной? Можем ли мы словом изменить то, что свободные граждане из нужды нанимаются на работы тяжелее тех, на какие отправляют рабов? Должно ли быть так, чтобы раб считался не человеком, а просто одушевленным орудием? Вещью? Но если мы признаем в нем человека, ибо он ничем от нас не отличается, кроме бедности, должно ли быть так, чтобы он был лишен прав человека? Чтоб не мог он носить имя своего рода, а только прозвище? Чтоб ему не принадлежали даже его дети, рожденные от рабынь, чтоб дети эти были всего лишь приростом имущества рабовладельца, словно они – домашние животные? Это – одни. А что же другие, по ту сторону бездны? Те, кто живет по правилу «имущество рождает имущество, деньги делают деньги»? Должно ли быть так, чтобы кто-то владел тысячами рабов, продавал и покупал их и жил в царской роскоши на прибыль, высосанную из их труда? Должно ли быть так, чтоб людей одного общества разделяла стена собственности, из-за которой человек человека не видит, а скорее ненавидит? – Сократ бурно дышал. – Зло нужды так же портит человека, как и зло золота. Как же быть мне с таким неравенством? Тут кончается моя мудрость, тут начинается моя боль, мое страдание.
Все ощутили боль Сократа как свою. Примолкли, как умолкают перед ликом несчастья.
Один Антисфен собрался с духом:
– Ты, Сократ, всегда беседуешь с нами только о том, что полезно и необходимо. Зачем же нам мучиться из-за того, чего нельзя изменить? Нужно ли нам так страдать, если все равно этому суждено оставаться вечно?
Сократ встал, порывисто схватил Антисфена за плечи, тряхнул его:
– Что ты говоришь?! Все останется вечно таким, как есть? И ничего нельзя изменить? Да неужели же я заговорил бы с вами об этом, если б не верил в изменение? Если я верю в возможность изменить человека, как же мне не верить в возможность изменить и все общество? Я не знаю, с какого конца браться за дело, но знаю: такая перемена произойдет опять-таки только через человека! Вот почему моя забота о человеке не была напрасной, не будет напрасной и ваша забота о нем. Поэтому, любимые мои, мучайтесь болью, которую я вам передаю, и не покидайте человека! Верьте в него, как верю в него я!
Пальцы Сократа отпустили плечи Антисфена; старец посмотрел на Платона:
– Не печальтесь и не пугайтесь того, что я сказал. Долгое время боролся я один с гидрой зла, но вас, сократиков, ныне уже много. Примите же то, что я узнал в конце своей жизни, вы, молодые. И от моего последнего познания идите к познаниям новым. Ломайте себе над этим голову, привлекайте к своему делу кого только сможете. Как менялся мир до нас, так будет он меняться и после нас. Но одних рук, одного мозга для этого мало. И вы, кровь от крови моей, будьте среди тех, кто станет пробивать миру дорогу, стремясь изменить его к лучшему.
Сократ обвел взглядом печальных друзей. Коснулся рукой лба.
– Что это со мной? Со всеми нами? Клянусь псом! Мы забыли пить… Аполлодор, наливай!
Выпили все, кроме Платона. Сократ заметил это.
– Что с тобой, мальчик? Ты так бледен! Болит у тебя что-нибудь?
Платон, прислонившись к стене, ответил:
– Болит. Боль твоя болит во мне.
10
Платон занемог.
– Я хочу тишины. Уйдите все, – приказал он озабоченным домашним. – Ты, Дидона, останься.
Дидона села на шкуру леопарда, ожидая дальнейших приказаний. Платон лежал в постели, тяжко дышал. Боль Сократа сделалась его болью, но он не был таким сильным, как учитель. Не было у него сократовского здоровья и выносливости. Его сводила с ума та бездна противостояний в Афинах, какую открыл ему Сократ. Страшный завет оставляет он нам!
Платона била лихорадочная дрожь. Ноги заледенели. Зябли ступни и икры. Молодая рабыня Дидона расставила вокруг его постели жаровни с раскаленными древесными углями.
Жар, пышущий от них, не согрел ему ноги; душил дым. Платон раскашлялся. Приказал убрать жаровни.
Дидона ходила босиком, розовыми ступнями как бы лаская черно-белый мозаичный пол, выложенный меандровым узором. Тихие шаги не раздражали Платона, но она уронила жаровню, та задребезжала об пол.
– Что ты наделала, несчастная?! – гневно вскричал Платон.
– Прости, господин… Когда ты болеешь, я и сама больна, вся дрожу…
Она улыбнулась Платону – он не видел; подошла к нему – он не заметил. Только когда она коснулась губами его ступни, он дернулся словно в нечаянном испуге и прошептал:
– Ты хорошая, милая, но сейчас я хочу покоя.
Она покорно отошла, села опять на леопардовую шкуру, чтоб охранять больного.
Платон трудно дышал. Что-то сжимало ему голову. Хотел сбросить – пальцы нащупали только слипшиеся от пота волосы. Что-то давило грудь. Провел рукой – на груди ничего нет, кроме легкой ткани хитона.
Дидона видела – он все сопротивляется чему-то, что причиняет ему невыносимые страдания. Веки у него покраснели, покраснели белки глаз. И сами глаза сегодня – больны. Как он чувствителен! Даже свет его ранит. Дидона встала. Осторожно, чтоб не звякнуть колечками, задвинула занавес. Опрыскала покой освежающими благовониями. Ему будет легче дышать.
Платон был далек мыслями отсюда. Из своей изысканной роскоши он перенесся в темницу. Там он сказал Сократу: если не найду в Афинах покоя и безопасности – уеду.
Наморщил лоб. Архонты отвергли деньги, предложенные Кебетом и Симмием, не заменили казнь штрафом. Несомненно, я тоже не буду здесь в безопасности. Надо готовиться к отъезду. Не один Анит – противник Сократа. От Сократа хотят избавиться и другие влиятельные люди – так же, как того хотел Анит.
И когда это случится, мертвый Сократ потянет за собой следующие жертвы… Я уже тесно связан с ним… Ведь скорее я, живой, должен тащить Сократа к живым, я не должен допустить, чтобы он, мертвый, тащил и меня к мертвецам. А дело похоже на то… Платон пошевелился, охваченный страхом. Острые когти боли глубоко вонзились ему в мозг. Вскрикнул.
– Желаешь чего-нибудь? – отозвалась Дидона.
– Да, – сказал он. – Целуй мне лицо, виски, лоб, волосы – да не так, легонько, только чтоб я знал, что это твои губы…
Дидона, счастливая его просьбой, выполнила ее.
А мысли Платона уже снова унеслись далеко от Дидоны. Сицилия? Он хорошо знаком с сиракузским тираном Дионисием. Укрыться у него со своей работой? Или в другое место?..
Дидона целовала Платону лоб, ее шелковистая кожа стирала капельки пота.
– Да, – вслух произнес он.
Дидона, думая, что этим словом он выразил удовлетворение ее лаской, вспыхнула от радости, присосалась губами к его ладони, словно хищная ласочка.
– Да, Сицилия, – с облегчением промолвил Платон. – Ты что, перепутала? Не знаешь, где у меня губы?
Она поцеловала его в губы:
– Я тебя не мучаю?
Теперь, через ткань своего хитона и ее тоненького пеплоса, он ощутил сосцы ее твердых грудей на своей груди.
– Нет. От тебя мне ничего не больно.
– Я тебя исцеляю?
– Моя болезнь – это болезнь души, и преодолеть ее я должен сам. Но ты смягчаешь ее неистовство.
– Моя душа тоже больна, – сказала Дидона. – Не наказывай меня за то, что я скажу…
– Ты отлично знаешь – я обращаюсь с тобой не как с рабыней. Ты моя приятельница. Сладкая моя подружка.
– Но ты, дорогой, не смягчаешь моих страданий – ты углубляешь их. Показал мне, что такое счастье. А ведь для меня-то это только призрак счастья…
Дидона встала. Пеплос ее был красно-коричневого цвета, как ствол пинии. В волосы вплетена зеленая лента. В уши вколоты золотые подвески, и в этих подвесках было то же беспокойство, что и в самой Дидоне. Красивая она и, кажется, уже знает о своей красоте, подумал Платон и сказал:
– Призрак, вздыхаешь ты? Но и призраки – неотъемлемая часть жизни. Порой они даже прекраснее действительности.
Глаза Дидоны вспыхнули затаенным гневом.
– Чем прекраснее призрак, тем горше жить после того, как он исчезнет…
Платон нахмурился:
– Ты жалеешь, что я взял тебя к себе?
– И да, и нет. – Дидона не совладала с собой. – Ты, счастливый, сыплешь мне крохи своего счастья, словно зерна твоим горлицам. Долго приходится мне ворковать, пока дождусь…
И здесь Сократ, подумал Платон. Как точно видит старик этих людей!