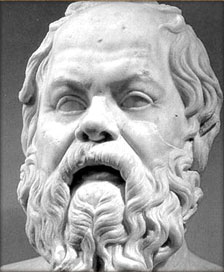напугал их. Взял руку Аполлодора, поддерживавшего его за спину, положил ее себе на колено, прижал своею рукой и заговорил:
– Друзья! Неужели вас поразило, что ваша весть едва не сбила меня с ног? Старику, для которого уже отмеряют на завтра цикуту, вы несете новое рождение – и хотите, чтобы он и глазом не моргнул? И ты, ты, мой Критон, воображаешь, что я так уж силен? А ты, милый Платон, склонный лишать меня всего человеческого, – ты удивляешься, что это так меня ошеломило? – Он погрозил им пальцем. – Молчите, молчите! Вам хотелось бы рассказывать обо мне титанические легенды. Много вы уже наболтали молодым, я-то слыхал. И теперь вам, для ваших школ, для ваших папирусов отлично сгодилась бы еще одна невероятность: Сократ со спокойным достоинством истого философа принимает как самую страшную, так и самую радостную весть… Глупенькие! – Он рассмеялся. – Да разве вы не знаете, как я люблю жизнь? Каждый кусок хлеба разжевываю благоговейно, пока он не покажется сладким, каждый глоток вина смакую прежде, чем спустить его в горло… Увидеть солнце! – Он поднял глаза к маленькому отверстию высоко в стене. – Опять каждое утро приветствовать его. Хайре, мое золотое! Утреннее солнышко совсем не жжет, знаете? Оно позволяет мне смотреть ему прямо в глаза…
– Мы ждали, что ты обрадуешься, – сказал Критон растроганно.
Сократ, громко рассмеявшись, подавил возбуждение.
– От радости, что он может отсюда выйти, дед Сократ чуть ума не лишился. Все тут уже прямо-таки жжет его. Опять захотелось ему пошататься по улицам, поболтать со встречными… Нет второго такого говоруна в Афинах… – Он осекся, споткнувшись об имя своих Афин, но быстро овладел собой. – Заводит тары-бары с торговцами, ремесленниками, приезжими, школярами и с теми, кто упражняется в палестрах, да еще и во сне что-то бормочет, как свидетельствует его Ксантиппа…
Странно как-то принимает он возвращение к жизни, подумал Платон.
Сократ постепенно успокаивался, однако не оставлял веселого тона – именно он-то и позволял ему успокоиться.
– Полагается, мои дорогие, поблагодарить вас. – Не вставая, он поклонился Критону и прочим. – Но вы тем самым навлекаете на себя всяческие беды – и только ради того, чтоб я мог лакомиться изысканными блюдами у Критонова друга в Фессалии. Стало быть, опять тот же пританей, хоть и несколько иного рода. Что ж, жить так было бы вовсе неплохо – даже и до глубокой старости…
– Но именно ты и заслужил этого в полной мере – особенно после неблагодарности афинян, – подхватил Платон.
Сократ улыбнулся.
– Да, это уж совсем не то, что там где-нибудь, на лужайке, усеянной бескровными асфоделиями, препираться с Радамантом: набожный я человек или безбожник. Воображаю – совсем они там растеряются, как быть со мной: ввергнуть в Тартар нельзя, я ведь набожный, а в Элисий меня не пустят за безбожие…
Он умолк. Подумал: сбеги я из тюрьмы, ждало бы меня то же самое. Не буду я уже ни гражданином Афин, ни гражданином того полиса, куда меня отправит Критон. Отогнав эту мысль, договорил:
– Чудесно продолжать беседы с Платоном, который обещает навещать меня в Фессалии. Несомненно, будут приезжать ко мне – на ослах или на лошадях – и многие из вас… так что «мыслильня» моя, временно перенесенная сюда, в темницу, переедет еще дальше. Так ты это себе представляешь, дорогой Критон, и вы все, милые?
Перебивая друг друга, подтвердили, обещали не покидать его, где бы он ни очутился. Один лишь Критон ответил иначе:
– Очень легко ты на это смотришь, брат. Смеешься. Вижу, вспомнил ты своего весельчака Демокрита… Возвращается к тебе хорошее настроение.
– Я сказал бы, – возразил Сократ, – что старый ваш учитель не изведывал еще такого блага, как теперь, ибо до сей поры никакое благо не являлось еще сменить ту чашу… ну, вы знаете какую.
Он видел, как радуются они его радости, и с тихой мечтательной улыбкой слушал Критона, который торопливо рассказывал, как тщательно он все продумал и устроил. Тюремщик и его помощники уже подкуплены. Также и служитель архонта. Никто из них ничего не увидит и не услышит. Тот же человек, который ночью откроет темницу и на которого свалится вся вина за бегство Сократа, сам бежит в ту же ночь. То, чего не взял от Симмия и Кебета архонт басилевс для государственной казны, охотно загребут эти мелкие людишки, убежденные вдобавок, что выпустить Сократа на свободу – справедливо.
– Выглядит это осуществимо и соблазнительно, – похвалил Сократ. – Не удивлен, что таким кажется дело всем вам, даже тебе, Критон, человеку с большим жизненным опытом. Но не будем спешить, – попросил он старого единомышленника. – Не знаю, многим ли людям… вернее, есть ли на свете такие люди, которые оказались бы в том же положении, что и я. Поговорим об этом подробнее. У нас для этого целый день.
– Охотно, милый друг, – согласился Критон. – Мы не сумели бы говорить сегодня о чем-либо ином.
– Допустим, – начал рассуждение Сократ, – все произойдет так, как сказал Критон, и я благополучно выберусь из заточения. Теперь закройте глаза и представьте сегодняшнюю ночь и меня. Я, который всю жизнь был подобен спруту, присосавшемуся к Афинам, теперь, на склоне лет, выкрадываюсь из городских ворот, словно вор. Слышу шаги за спиной, прячусь за колонны… Да, а какой наряд вы мне приготовили для бегства? Вашего учителя сравнивают с пастухом – не думаете ли вы напялить на меня длинный пастушеский плащ? Нахлобучите на голову широкополую шляпу; завяжете шнурки ее у меня под бородой, обуете в высокие, на шнурках, сапоги, в руки вложите длинный посох – что же останется от меня? Разве моя борода – а бороды носят многие… Да уж, воображаю, как вы меня обрядите! Совсем исчезну со света…
– Ничего подобного, – возразил Критон. – Мы наняли людей, они понесут тебя в носилках, будто врача к больному…
– Врач действительно нужен, немедленно, и притом для вас, друзья, – с укором перебил его Сократ. – Из страха за меня вы совсем потеряли голову. Однако шутки в сторону – обсудим доводы в пользу бегства и против него.
– Хорошо. Это твой обычный метод, – кивнул Критон, прибавив с нажимом. – Только думай о том, что ты обязан спасти свою жизнь для семьи, для друзей и для Афин.
Жена, сын, Мирто, друзья, Афины… Обморочное состояние, подобное тому, какое охватило его на суде, ослепило его и сейчас, остановив движение мыслей. Жена, сын, Мирто… Сократ обеими руками закрыл лицо и склонил голову к коленям.
– Выпей. – Он узнал голос Платона. – Это тебе поможет…
Он выпрямился. Темнота перед глазами рассеялась.
– Спасибо, Платон, не откажусь. – Он принял кружку. – Давайте вместе пить и есть. Тяжелые мысли забирают больше сил, чем работа в каменоломнях.
Последовали его желанию. Сам Сократ ел мало. Удовлетворился сыром и солеными оливками.
Чувствуя, что друзей одолевает нетерпение, он, еще не проглотив куска, заговорил:
– То, что вы мне предлагаете, милые, вещь и хорошая – и дурная, чудесная – и некрасивая. Критон, в своем перечислении ты забыл назвать главное лицо, то есть меня, и еще – моих врагов.
– Включи же их в этот перечень, – ответил Критон. – Это только облегчит тебе решение оказаться как можно дальше отсюда, и как можно скорее.
Теперь Сократ уже сам обнял Аполлодора.
– Вы предлагаете мне жизнь вместо смерти, то есть самое прекрасное, самое лучшее – с вашей точки зрения, с точки зрения верных друзей. – Он глянул на Критона и Платона, которые стояли рядом, прислонившись к каменной стене. – У меня есть семья. Ксантиппа, Лампрокл, Мирто будут счастливы, зная, что я живу где-то в достатке и безопасности. Но имею ли я право доставить им такое счастье? Ведь в таком случае они будут семьей беглеца, нарушившего закон. Люди будут избегать их. И не почувствуют к ним ни капли жалости. Если же меня несправедливо лишат жизни, люди осыплют их всем, чем смогут. Тогда уж моя семья будет жить в достатке и безопасности. Не вытекает ли из сказанного, что – пользоваться достатком и безопасностью может только кто-то один: моя семья – или я.
Критон строптиво молчал.
– Трудно возражать тебе, но я все же возражу, – нарушил тишину Антисфен. – Жизни своей ты противопоставляешь достаток и безопасность семьи. Жизнь – больше.
– Боюсь, Антисфен, в данном случае моя смерть нужнее моей жизни.
Аполлодор, вывернувшись из-под руки Сократа, пылко воскликнул:
– В этом ты никого из нас не убедишь!
Но Сократ твердо сказал:
– А я попробую. Смерть не всегда враждебна жизни. Разве не помогает нередко смерть большему совершенствованию жизни? Не бывает ли так, что смерть становится родительницей высочайших духовных ценностей? Ну, любители философии? Или я ошибаюсь?
Они не могли не признать этой истины, проверенной историей и вновь и вновь подтверждаемой современностью. Но они решили бороться за жизнь Сократа до последнего. Зашумели.
Критон, раздраженный сопротивлением Сократа, закричал на него:
– Какая в том логика, Сократ, что ты добровольно покоряешься неправому суду?!
Остальные шумно его поддержали. А Критон торопился высказать свое возмущение:
– Теперь один ты можешь исправить несправедливость, совершенную над тобой, – кто другой в состоянии это сделать?
– Продолжай, Критон, – попросил Сократ. – По-моему, твоя речь не окончена.
Критон, нервничавший больше самого Сократа, словно это ему грозила гибель, не сразу сообразил, что сказать еще.
– Да помогите же мне кто-нибудь уломать этого упрямца! – взорвался он наконец, кинув взгляд на Платона.
Тот побледнел.
– Афинские законы священны для каждого гражданина, – медленно выговорил он. – Каждый обязан чтить их и подчиняться им. Но ведь тут были не законы – тут были люди, стремившиеся уничтожить Сократа! И теперь не нам – ему самому решать эту дилемму.
Критон расслышал какой-то шорох за дверью, выглянул – кто там? Это был тюремщик, который должен был облегчить побег.
– Он что, не соглашается? – шепотом спросил тюремщик Критона.
– Согласится – он только исследует дело…
– То-то же… такой мудрый человек…
– А ты что здесь делаешь?
– Сторожу. Очень уж вы шумите. Коли что – я вас сразу предупрежу.
А в камере звучал мелодичный голос Сократа, страстный, покоряющий:
– Ага, законами вооружились… Вы, живые, вы, которые хотите жить, – он повернулся к Платону, – вы не должны восставать против законов. Не буду восставать против них и я. Но если сегодня мы придем к выводу, что лучше мне подчиниться законам, то именно моя смерть заставит, во-первых, изменить их, а во-вторых, создать такие условия, когда невозможно будет ими злоупотреблять. Меня судила гелиэя, которая вместе с тем – высший суд, и мне уже не к кому обращаться: так вот, если приговор мне будет приведен в исполнение, судьи и знатоки права под давлением общественного мнения пересмотрят законы и, найдя в них изъяны или недостатки, предложат народному собранию новые, более совершенные законопроекты. Так?
Никто не возразил. Сократу стало жалко Платона.
– Видишь, видишь, мой мальчик, ты сам, да еще с каким рвением, придвинул ближе ко