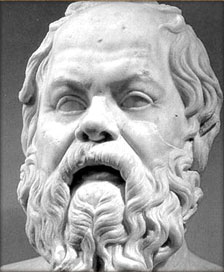знает, что ждет его вскоре? А впрочем, с одним вы должны согласиться: до чего милосердна наша Эллада к приговоренным! Вспомните, как казнят в варварских странах! Топором отрубают голову; разрывают на части четырьмя быками; побивают камнями; а то еще сажают на кол, бросают на съедение львам и даже заживо распинают на кресте – и все это на глазах у тысячных толп. Наша прекрасная добрая Эллада избавляет смертника от всего этого – лишь в присутствии близких подносит она ему чашу красивой чеканки… Согласитесь – высоко эллинское чувство деликатности и вкуса!
Сократ смеялся, и не было в его смехе оттенка страха, который угнетал его друзей.
– Но пока не будем думать об этом. Вернемся ко мне самому. Вы, поди, думаете: и хитер же этот Сократ! Рассчитал, что, пройдя через смертоносный миг, он совершит единственно правильное деяние в интересах Афин, и друзей, и последователей, и семьи – и даже в интересах памяти о себе…
Никто не ответил; снаружи, перед тюрьмой, поднялся шум.
– Слышите? – сказал Сократ. – Люди роятся вокруг меня, как пчелы вокруг своей матки. Я останусь в чести у афинян. И тогда проникну не только в тот фессалийский город, который выбрал для меня ты, мой любезный Критон, но и во многие иные города, о которых я даже не знаю, где они или где они когда-нибудь возникнут. А это разве малая радость для меня?
Он замолчал. Шум снаружи усиливался, близился. Тюремщик отпер дверь – вошли Ксантиппа с Лампроклом.
Мужчины встали. Сократ двинулся навстречу жене и подвел ее к самому ложу. Ксантиппа села. Она сидела, прямая, с исхудавшим лицом, с покрасневшими веками, ее блестящие черные волосы были свернуты в тяжелый узел. Даже в скорби она хранила достоинство. Что-то возвышенное было во всем ее облике.
Критон от имени всех спросил – не выйти ли им.
– Нет, нет, останьтесь с нами! – Прядка волос выбилась у Ксантиппы из прически, Сократ бережно засунул ее на место. – Правда же, лошадка моя, пускай остаются?
Ксантиппа затрепетала, ощутив прикосновение его руки, уловив нежность в его голосе, но сердито начала:
– Нужно тебе было все это! Ни у кого в голове не укладывается… – Ей удалось остановить поток горьких слов. Приказала Лампроклу проститься с отцом и возвращаться домой.
Сократ усадил сына рядом с собой и просил его заботиться о матери.
– И будь ласков с мамой. Ты ведь помнишь еще, что я тебе говорил недавно, как должен хороший сын относиться к матери!
В мыслях Лампрокла тотчас возникло возражение – мол, ни одна мать так не строга к сыну, как его, – но он не решился высказать это здесь. Просто молча кивнул.
Сократ расцеловал сына.
– Ну вот, а теперь беги, мальчик, и постарайся жить хорошо!
Горе Лампрокла прорвалось.
– Отец! – в отчаянии вскричал он.
– Ну что ты, что ты. – Отец погладил его по голове. – Ничего дурного со мной не случится, не бойся. Я останусь с вами, а больше всего – с тобой. Чем старше будешь становиться, тем лучше расслышишь, о чем я тебе когда толковал.
Уткнув лицо в сгиб локтя, юноша выбежал вон. Когда дверь за ним закрылась, Ксантиппа заплакала.
– Не плачь! Не плачь, лошадка моя… Так лучше для меня. И для тебя так будет лучше, да, да, вот увидишь – ты сама скоро поймешь, и все те, у кого сейчас это не укладывается в голове. Давай-ка… – Он помог ей встать. – Дай обниму тебя напоследок. Мы ведь любим друг друга. Я знаю, – он мягко улыбнулся, – тебе приносило облегчение, когда ты ворчала на меня. И знаешь, я ведь с удовольствием слушал твою воркотню…
Он прижал к себе жену, поцеловал.
– Ты не должен был допускать этого! Все – только не это! – Ксантиппу душили рыдания. Она спрятала лицо на груди Сократа.
А он все гладил ее по голове, шутил:
– Вот подожди – встретимся в Элисии, там я тебя за все вознагражу…
– Недолго ты будешь там без меня – я очень больна…
– Когда кончится этот день, ты успокоишься. Выздоровеешь. И не забывайте с Лампроклом ухаживать за моим виноградником в Гуди. Дорогая, сейчас ты тоже иди домой…
Она вздрогнула:
– Нет! Я останусь с тобой!
– Нет, нет. Иди домой. И не плачь. Обо мне уже хорошо позаботились. И о тебе тоже – верно, Критон? Так что иди – нам обоим будет легче. Аполлодор проводит тебя.
Аполлодор взял ее за руку; она не противилась, сраженная скорбью и плачем. Сократ довел ее до двери.
– Благодарю тебя, за все тебя благодарю, моя лошадка…
Ксантиппа круто обернулась к нему, вынула из узелка чистый хитон, подала:
– Вот…
Мирто пошла нарвать цветов – весь садик зарос ими. Какой же цветок больше всего порадует Сократа? В углу, между мраморных глыб, нашла большой желтый златоцвет. Золотое сияющее око, золотое солнышко…
Нагнулась было сорвать, да выпрямилась. Нет. Еще не сейчас. А то увянет. Пойду туда перед самым закатом.
Милый мой, дорогой, хочу проститься с тобою последней…
Солнце спустилось ниже. Два служителя архонта пришли, сказали – пора приготовиться. Увели Сократа в соседнее помещение – омыться.
Ужас объял друзей. Плач Аполлодора проникал через стену.
Сократ сбросил хитон, умылся. Почему, почему не пришла Мирто? Внезапный холод охватил его, он задрожал. Вытерся, надел чистый хитон, вернулся в камеру, к своим.
– Смотрите, какой я нарядный, – указал он на свою белоснежную одежду.
Друзья стояли, прижавшись к стене.
И тут вошла Мирто.
– Как хорошо, что ты пришла! Я ждал тебя целый день.
– В мыслях своих я все время была с тобой.
– Зачем это покрывало у тебя на голове? Даже погладить тебя не могу…
Мирто протянула ему узелок.
– Что это?
– Сейчас не смотри. Когда уйду.
Она вынула спрятанный на груди златоцвет. Сократ принял его, смотрел, растроганный:
– Как ты угадала, что именно этот цветок я люблю больше всего?
– Я ведь знаю, как ты любишь солнце…
Тюремщик подошел к Мирто:
– Простись с ним. Пора.
Сократ положил цветок и обнял Мирто. Я не должна плакать, внушала она себе. Ни слезинки не должен он увидеть у меня… Поцеловала долгим поцелуем.
– Будь счастлива, моя милая.
Мирто не разомкнула губ. Пятясь, отодвигалась она к двери и все улыбалась, улыбалась Сократу…
А друзья стояли в ряд у стены, недвижные, словно изваяния, пока за Мирто не захлопнулась дверь. Тогда приблизились к Сократу. Но он уже ничего не стал говорить. Развернул узелок Мирто. Засветились желтые волосы. Он отнес их на ложе – руки его дрожали – и бережно, словно что-то живое, уложил их на подушку. Потом поставил золотой цветок в стройную ойнохою с водой.
Солнце зашло, и в камере смерклось.
Сократ подступил к двери и сказал с внезапной решимостью:
– Давайте яд!
Друзья затрепетали. Казалось, в камере отдался высокий звук, тонкий, как паутина, что облепляет пойманную добычу.
Вошел отравитель, поставил на стол светильник и сказал:
– Когда выпьешь напиток, начни прохаживаться, как советуют знатоки ядов. Почувствуешь тяжесть в ногах – тогда ложись. Я буду следить за действием яда, за тем, как цепенеют твои конечности…
– И когда дойдет до сердца?.. – вопросительно взглянул на него Сократ.
Отравитель кивнул.
– Да. Тогда.
Он подал чашу.
Сократ принял ее, рассмотрел чеканный узор, улыбнулся – он ведь предсказал, что яд ему поднесут в красивом сосуде. Бросил взгляд на солнечный цветок, намеком совершил ему возлияние – и залпом выпил. И стал ходить вдоль шеренги окаменевших друзей.
Но вот он медленно, с трудом приблизился к ложу, лег, прижал к груди прядь желтых волос. Отравитель пощупал – до каких пределов потеряло его тело чувствительность.
Друзья тихо приблизились. Сократ не отрываясь смотрел на цветок Мирто. Его коронка, повернутая к Сократу, сияла золотом в отблеске светильника. Явственно проносился по камере тот высокий, паутинный звук.
Аполлодор рыдал, уткнувшись в ладони. Мужчины, скрывая слезы, закрыли лица плащами. Критон стоял в изголовье. Отравитель показал ему – тело Сократа окоченело уже почти по пояс. Критон был бледен и чувствовал, что теряет сознание, – но тут он заметил: Сократ улыбнулся!
– Хочешь еще что-то сказать нам, мой дорогой? – тихонько спросил старый друг.
Сократ не отрывал взгляда от златоцвета.