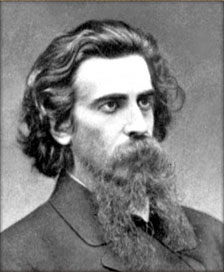При такой богатой и сложной натуре, какая была у Достоевского, при необыкновенной его впечатлительности и отзывчивости на все явления жизни, его духовный мир представлял слишком великое разнообразие чувств, мыслей и порывов, чтобы можно было воссоздать его в краткой речи. Но отзываясь на {все} с таким душевным жаром, он всегда признавал только {одно} как главное и безусловно необходимое, к чему все остальное должно {приложиться}. Эта центральная идея, которой служил Достоевский во всей своей деятельности, была христианская идея свободного всечеловеческого единения, всемирного братства во имя Христово. Эту идею проповедовал Достоевский, когда говорил об истинной Церкви, о вселенском православии, в ней же он видел духовную, еще не проявленную сущность Русского народа, всемирно-историческую задачу России, то новое слово, которое Россия должна сказать миру. Хотя уже 18 веков прошло с тех пор, как это слово впервые возвещено Христом, но поистине в наши дни оно является совсем новым словом, и такого проповедника христианской идеи, каким был Достоевский, по справедливости можно назвать «ясновидящим предчувственником» истинного христианства. Христос не был для него только фактом прошедшего, далеким и непостижимым чудом. Если так смотреть на Христа, то легко можно сделать из Него мертвый образ, которому поклоняются в церквах по праздникам, но которому нет места в жизни. Тогда все христианство замыкается в стенах храма и превращается в обряд и молитвословие, а деятельная жизнь остается всецело нехристианскою. И такая внешняя Церковь заключает в себе истинную веру, но эта вера здесь так слаба, что ее достает только на праздничные минуты. Это — {храмовое} христианство. И оно должно существовать первее всего, ибо на земле внешнее прежде внутреннего, но его недостаточно. Есть другой вид или степень христианства, где оно уже не довольствуется богослужением, а хочет руководить деятельною жизнью человека, оно выходит из храма и поселяется в жилищах человеческих. Его удел — внутренняя индивидуальная жизнь. Здесь Христос является как высший нравственный идеал, религия сосредоточивается в личной нравственности, и ее дело полагается в спасении отдельной души человеческой. [303] Есть и в таком христианстве истинная вера, но и здесь она еще слаба: ее достает только на {личную} жизнь и {частные} дела человека. Это есть христианство {домашнее}. Оно должно быть, но и его недостаточно. Ибо оно оставляет весь общечеловеческий мир, все дела, общественные, гражданские и международные, — все это оно оставляет и передает во власть злых антихристианских начал. Но если христианство есть высшая, безусловная истина, то так не должно быть. Истинное христианство не может быть только домашним, как и только храмовым, — оно должно быть {вселенским} (15), оно должно распространяться на все человечество и на все дела человеческие. И если Христос есть действительно воплощение истины, то Он не должен оставаться только храмовым изображением или же только личным идеалом: мы должны признать Его как всемирно-историческое начало, как живое основание и краеугольный камень всечеловеческой Церкви. Все дела и отношения общечеловеческие должны окончательно управляться тем же самым нравственным началом, которому мы поклоняемся в храмах и которое признаем в своей домашней жизни, т.е. началом любви, свободного согласия и братского единения. Такое вселенское христианство исповедовал и возвещал Достоевский. Храмовое и домашнее христианство существует в действительности — оно есть {факт}. Христианства вселенского еще нет в действительности, оно есть только {задача}, и какая огромная, превышающая, по-видимому, силы человеческие задача. В действительности все общечеловеческие дела политика, наука, искусство, общественное хозяйство, находясь вне христианского начала, вместо того чтобы объединять людей, разрознивают и разделяют их, ибо все эти дела управляются эгоизмом и частной выгодой, соперничеством и борьбою и порождают угнетение и насилие. Такова действительность, таков факт. Но в том-то и заслуга, в том-то и все значение таких людей, как Достоевский, что они не преклоняются пред силой факта и не служат ей. Против этой грубой силы того, что существует, у них есть духовная сила веры в истину и добро — в то, что должно быть. Не искушаться видимым господством зла и не отрекаться ради него от невидимого добра есть подвиг веры. В нем вся сила человека. Кто не способен на этот подвиг, тот ничего не сделает и ничего не скажет человечеству. Люди факта живут чужой жизнью, но не они творят жизнь. {Творят жизнь} люди веры. Это те, которые называются мечта[304] телями, утопистами, юродивыми, — они же пророки, истинно лучшие люди и вожди человечества. Такого человека мы сегодня поминаем. Не смущаясь антихристианским характером всей нашей жизни и деятельности, не смущаясь безжизненностью и бездействием нашего христианства, Достоевский верил и проповедовал христианство, живое и деятельное, вселенскую Церковь, всемирное православное дело. Он говорил не о том только, что есть, а о том, что должно быть. Он говорил о вселенской православной Церкви не только как о божественном учреждении, неизменно пребывающем, но и как о {задаче} всечеловеческого и всесветного соединения во имя Христово и в духе Христовом — в духе любви и милосердия, подвига и самопожертвования. Истинная Церковь, которую проповедовал Достоевский, есть всечеловеческая, прежде всего в {том} смысле, что в ней должно вконец исчезнуть разделение человечества на соперничествующие и враждебные между собою племена и народы. Все они, не теряя своего национального характера, а лишь освобождаясь от своего национального эгоизма, могут и должны соединиться в одном общем деле всемирного возрождения. Поэтому Достоевский, говоря о России, не мог иметь в виду национального обособления (16). Напротив, все значение русского народа он полагал в служении истинному христианству, в нем же нет ни эллина, ни иудея. Правда, он считал Россию избранным народом Божиим, но избранным не для соперничества с другими народами и не для господства и первенства над ними, а для свободного служения всем народам и для осуществления, в братском союзе с ними, истинного всечеловечества, или вселенской Церкви. Достоевский никогда не идеализировал народ и не поклонялся ему как кумиру. Он верил в Россию и предсказывал ей великое будущее, но главным задатком этого будущего была в его глазах именно слабость национального эгоизма и исключительности в русском народе. Две в нем черты были особенно дороги Достоевскому. Во-первых, необыкновенная способность усваивать дух и идеи чужих народов, перевоплощаться в духовную суть всех наций — черта, которая особенно выразилась в поэзии Пушкина. Вторая, еще более важная черта, которую Достоевский указывал в русском народе, — это сознание своей греховности, неспособность возводить свое несовершенство в закон и право и успокаиваться на нем, отсюда требование лучшей жизни, жажда очищения и подвига. Без этого нет истинной деятельности ни для отдельного лица, [305] ни для целого народа. Как бы глубоко ни было падение человека или народа, какою бы скверной ни была наполнена его жизнь, он может из нее выйти и подняться, если {хочет}, т. е. если признает свою дурную действительность только за дурное, только за факт, которого не должно быть, и не делает из этого дурного факта неизменный закон и принцип, не возводит своего греха в правду. Но если человек или народ не мирится с своей дурной действительностью и осуждает ее как грех, это уж значит, что у него есть какое-нибудь представление, или идея, или хотя бы только предчувствие другой, лучшей жизни, того, что {должно} быть. Вот почему Достоевский утверждал, что русский народ, несмотря на свой видимый звериный образ, в глубине души своей носит другой образ — образ Христов — и, когда придет время, покажет Его въявь всем народам, и привлечет их к Нему, и вместе с ними исполнит всечеловеческую задачу. А задача эта, т. е. истинное христианство, есть всечеловеческое не в том только смысле, что оно должно соединить все народы {одной верой}, а, главное, в том, что оно должно соединить и примирить все человеческие {дела} в одно всемирное общее дело, без него же и общая вселенская вера была бы только отвлеченной формулой и мертвым догматом. А это воссоединение общечеловеческих дел, по крайней мере самых высших из «них, в одной христианской идее Достоевский не только проповедовал, но до известной степени и показывал сам в своей собственной деятельности. Будучи {религиозным} человеком, он был вместе с тем вполне свободным {мыслителем} и могучим {художником}. Эти три стороны, эти три высшие дела не разграничивались у него между собою и не исключали друг друга, а входили нераздельно во всю его деятельность. В своих убеждениях он никогда не отделял истину от добра и красоты, в своем художественном творчестве он никогда не ставил красоту отдельно от добра и истины. И он был прав, потому что эти три живут только своим союзом. Добро, отделенное от истины и красоты, есть только неопределенное чувство, бессильный порыв, истина отвлеченная есть пустое слово, а красота без добра и истины есть кумир. Для Достоевского же это были только три неразлучные вида одной безусловной идеи. Открывшаяся в Христе бесконечность человеческой души, способной вместить в себя всю бесконечность божества, — эта идея есть вместе и величайшее добро, и высочайшая истина, и совершеннейшая красота [306] Истина есть добро, мыслимое человеческим умом; красота есть то же добро и та же истина, телесно воплощенная в живой конкретной форме. И полное ее воплощение уже во всем есть конец, и цель, и совершенство, и вот почему Достоевский говорил, что красота спасет мир. Мир не должен быть спасен насильно. Задача не в простом соединении всех частей человечества и всех дел человеческих в одно общее дело. Можно себе представить, что люди работают вместе над какой-нибудь великой задачей и к ней сводят и ей подчиняют все свои частные деятельности, но если эта задача им {навязана}, если она для них есть нечто роковое и неотступное, если они соединены слепым инстинктом или внешним принуждением, то, хотя бы такое единство распространялось на все человечество, это не будет истинным всечеловечеством, а только огромным «муравейником». Образчики таких муравейников были, мы знаем, в восточных деспотиях — в Китае, в Египте, в небольших размерах они были уже в новое время осуществляемы коммунистами в Северной Америке (17). Против такого муравейника со всею силой восставал Достоевский, видя в нем прямую противуположность своему общественному идеалу. Его идеал требует не только единения всех людей и всех дел человеческих, но главное — {человечного} их единения. Дело не в единстве, а в свободном {согласии} на единство. Дело. не в великости и важности общей задачи, а в добровольном ее признании. Окончательное условие истинного всечеловечества есть свобода. Но где