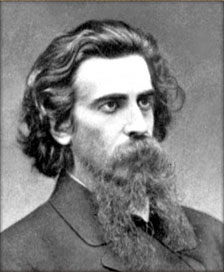Чернышевского — самой значительной головы в этом враждебном и, во всяком случае, чуждом и не сочувственном им лагере,так поразила и возмутила этих людей? Конечно, они были слишком благородны, чтобы радоваться чьему бы то ни было несчастью. Но, если бы они считали это несчастье заслуженным, они могли бы «по человечеству» пожалеть о пострадавшем, указать на какие-нибудь «смягчающие обстоятельства» — и успокоиться. Но откуда это необычайное волнение, почему эти люди выведены из себя?
Отчасти я могу понять причину из тогдашнего разговора, особенно из слов отца, который говорил больше своих собеседников. Впоследствии дело выяснилось для меня вполне.
III
— Что же это такое? — говорил отец,- берут из общества одного из самых видных людей, писателя, который десять лет проповедовал на всю Россию известные взгляды с разрешения цензуры, имел огромное влияние, вел за собою чуть не все молодое поколение,- такого человека в один прекрасный день без всякого ясного повода берут, сажают в тюрьму, держат года,- никому ничего не известно,- судят каким-то секретным судом, совершенно некомпетентным, к которому ни один человек в России доверия и уважения иметь не может и который само правительство объявило никуда не годным*,- и вот, наконец, общество извещается, этот Чернышевский, которого оно знает только как писателя, ссылается на каторгу за политическое преступ
______________
* Судебная реформа была уже в это время делом решенным {2}.
375
ление,- а о каком-нибудь доказательстве его преступности, о каком-нибудь определенном факте нет и помину.
— Как вы странно рассуждаете,- заговорил Е. Ф. Корш,- ну, какие тут доказательства? На какой планете вы живете? Мы — дети, они — отцы, вот и все. И какая у вас черная неблагодарность. Вас избавили от зловредного человека, который чуть-чуть не запер вас в какую-то фаланстерию, а вы требуете каких-то доказательств. Ну, кому же и верить на слово, как не правительству?
— А вот именно потому,- продолжал отец прежним тоном,- что я верю правительству, я и не могу доверять тому суду, который само правительство признало никуда не годным и обреченным на уничтожение. Всем известно, что это за судьи и что им не только судьбы человека, а последней кошки доверить нельзя.
— Ты в самом деле думаешь,- мрачно пробурчал Кет-чер,- что ничего фактического не было?
— Не думаю, а совершенно уверен. Ведь каковы бы ни были эти судьи, не в сумасшедшем же доме они сидят. Сообрази сам, допустим, что в политическом процессе для успешного расследования может требоваться строгая тайна. Но когда дело кончено, виновность доказана и приговор состоялся, то тут из-за чего же секретничать? Я готов даже допустить и такую нелепость, чтобы прятали и самого Чернышевского, боясь, как бы его не освободили. Но вину-то его, вину фактическую, доказанную, зачем прятать? Единственное объяснение,что этой вины нет и что объявлять им нечего.
IV
Собеседники не спорили; разговор продолжался на ту же тему, но я запомнил из него ясно только то, что сейчас передал. Впоследствии, в разных возрастах, мне случалось разговаривать о Чернышевском с моим отцом, который всегда подтверждал свою уверенность в том, что никакого политического преступления Чернышевский не совершал, а был сослан за то, что его писательская (подцензурная) деятельность найдена была опасною для существующего порядка.
Отец имел, хоть и не близкое, личное знакомство с Чернышевским: им пришлось видеться и разговаривать всего два раза с промежутками в несколько лет. В первое свидание (если не ошибаюсь, в конце 1859 г.) Чернышевский очень
376
понравился отцу, во второе (должно быть, в начале 1862 г.) он нашел в нем большую перемену, которую объяснял установившимся идолопоклонническим отношением к Чернышевскому окружавшей его литературной и общественной среды. «Я помнил,- говорил отец,- замечательно умного и толкового собеседника, скромного и любезного,- и вдруг непогрешимый оракул, которого можно только почтительно слушать. Совсем другой человек сделался — узнать было нельзя». Факт перемены в Чернышевском оставил свои следы и в печатных его произведениях; но он допускал, может быть, другое объяснение. Впрочем, и слова отца, помню, были сказаны не столько в упрек Чернышевскому, сколько в обличение незрелости, несерьезности и холопского духа в русском обществе. «Ну, какой тут может быть правильный рост образованности? Третьего дня ты принялся за серьезное дело в науке и в литературе, вчера тебя потащили на дельфийский треножник: не нужно, мол, нам твоего умственного труда, давай нам только прорицания; а сегодня, еще не прочхавшись от фимиама, ты уже на каторге: зачем прорицательствовал с разрешения предварительной цензуры».
Отец с своей точки зрения полагал, что Чернышевский, возмужав, сумел бы отделаться от вредного действия общественных поклонений; фимиам передовых кружков испарился бы у него вместе с невинными социалистическими утопиями, и он стал бы настоящим умственным деятелем на пользу России. Тем сильнее было негодование отца на виновников катастрофы: «одни испортили, а другие совсем погубили». Подлинные выражения, которые я хорошо помню, были гораздо резче*.
От этих разговоров с отцом у меня осталось яркое представление о Чернышевском как о человеке, граждански убитом не за какое-нибудь политическое преступление, а лишь за свои мысли и убеждения. Конечно, обнародо
____________
* Перемена, замеченная отцом в Чернышевском, фактически несомненно произошла, так как можно указать ее прямые проявления и в литературе (напр., в полемическом ответе Юркевичу). Но имела ли она указанную причину или же совсем другие — это остается спорным. Она могла происходить не от самомнения, а от раздражения, вследствие оказавшейся непрочности освободительного движения и появившихся уже в 1861 г. признаков начинающейся реакции.
377
вание своих мыслей и убеждений в печати есть уже поступок, но если этот поступок совершается с предварительного разрешения правительственной цензуры, казалось бы, ясно, что он не может быть преступлением.
Впоследствии мне случилось ближе познакомиться (по некоторым документам) с делом Чернышевского, и мое прежнее впечатление не только подтвердилось, но стало несомненною и непоколебимою уверенностью. Я укажу здесь в кратких чертах на главные основания этой уверенности.
Чернышевский был обвиняем, главным образом, на трех основаниях: 1) преступные сношения его с эмигрантом Герценом, 2) участие в составлении и напечатании прокламации к крестьянам, и 3) письмо к поэту Плещееву преступного содержания.
По первому пункту выяснилось, что, когда в 1861 г. журнал «Современник» был подвергнут непродолжительной приостановке, Герцен обратился через одного общего знакомого к Чернышевскому с предложением перенести издание за границу, на что получил решительный отказ {3}. При этом оказалось, что вообще к замыслам Герцена относительно революционной агитации Чернышевский относился отрицательно, и поддерживать обвинение по этому пункту найдено было совершенно невозможным.
Относительно второго основания обвинения обнаружилось одно обстоятельство, на которое странный суд, разбиравший дело, не обратил внимания, хотя при суде сколько-нибудь правильном этот факт, конечно, решил бы дело в пользу подсудимого. Случайным образом оказалось, что единственный его обвинитель, выгораживающий этим обвинением себя самого,- и действительно сейчас же освобожденный от наказания, к которому он уже был приговорен,этот единственный обвинитель и доносчик на Чернышевского подкупал как свидетеля одного пьяницу-мещанина, который затем оказался лицом столь неблагонадежным, что его пришлось административно выслать в Архангельскую губернию.
Что касается до третьего основания обвинения, мнимого письма Чернышевского к Плещееву, то ввиду решительного заявления подсудимого, что он такого письма никогда не писал и что почерк предъявленного ему документа — не его, хотя вначале старательно подделан под его руку,- были спрошены в качестве _экспертов_… сенатские секретари! Каким образом эта должность и ступень служебной иерархии является вдруг в виде особой профессии — это есть тайна нашей дореформенной юстиции. Между моими хоро
378
шими знакомыми есть несколько лиц, бывших сенатскими секретарями (один из них еще до судебного преобразования), но они решительно отрицают какую-нибудь свою прикосновенность к искусству распознавания почерков и различения поддельного сходства от действительного тождества. Секретари могли говорить только о явном сходстве почерков, которое необходимо существует и в подделке. При этом некоторые из них, вероятно более внимательно рассматривавшие письмо по отдельным буквам, заявили, что только некоторые буквы схожи способом писания их в признанном письме Чернышевского, другие же не похожи. Такая экспертиза была сочтена достаточною для признания подлинности письма и для осуждения Чернышевского!
А между тем помимо такого странного решения вопроса о почерках, принадлежность Чернышевскому этого письма опровергается и по существу — и неправдоподобным содержанием письма, и выбором адресата, и выбором посредника. Поэт тихой грусти, А. Н. Плещеев, был в жизни совершенным младенцем. В ранней молодости он как-то участвовал в знаменитом деле Петрашевского, когда несколько молодых людей, в том числе Ф. М. Достоевский и Н. Я. Данилевский (автор ультранационалистической книги «Россия и Европа»), оказались виновными в тяжком политическом преступлении: в домашних разговорах о крепостном праве и в потаенном чтении сочинений Фурье. Приговоренные за это к смертной казни, они были уже по прочтении приговора помилованы, т. е. смертная казнь заменена другими наказаниями: от каторги до высылки в отдаленные города на обязательную государственную службу. После этого Плещеев никакою политикою не занимался. И ему-то Чернышевский, очень мало с ним знакомый, написал будто бы письмо о каком-то их общем революционном предприятии и отправил этот документ с юным литератором, с которым также вовсе не был близок и который вместо адресата доставил письмо в III-е Отделение. Очевидно, над изобретением правдоподобных улик не очень трудились: не считали нужным церемониться. Что улика была заведомо ложная, явствует из следующего соображения. Ведь при предположении подлинности письма оно было уликою против Плещеева столько же, сколько против Чернышевского. Между тем Плещеев никакой ответственности не подвергся. Ясно, что ни в Ill-ем Отделении, ни в Сенате подлинности этого письма не верили {4}.
379
VI
Ясно вместе с тем, что к подобным доказательствам политической преступности Чернышевского никто не стал бы прибегать, если бы были какие-нибудь лучшие. Но ни перед арестом Чернышевского, ни в два года его сидения в крепости никаких доказательств его преступности не удалось найти. Да и чем объяснить это долговременное предварительное заключение при крайней скудости обвинительного материала, как не надеждою судей отыскать какие-нибудь улики, хоть немного более приличные. Но эта надежда оставалась тщетною, никаких правдоподобных улик не являлось, и пришлось наконец осудить его на основании одних вымыслов и подлогов.
Действительною причиною дела были, разумеется, печатные произведения Чернышевского, которые были упомянуты и в опубликованном приговоре. Все они появлялись, как я уже говорил, с разрешения предварительной цензуры. Никаких запрещенных книг или брошюр Чернышевский никогда не издавал. Но вот одно обстоятельство, которое кажется мне очень характерным и любопытным. Изо всех сочинений Чернышевского есть только одно, единственное, где можно было бы найти если не основание, то некоторый повод к политической инкриминации,именно знаменитый роман «Что делать?». В конце его попадаются какие-то, правда, очень