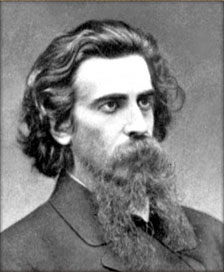этих мучеников ангелы какие-нибудь блестящие венки надели и поместили их где-нибудь под кущами райских садов в награду за их подвиги?
Г[-н] Z. Нет, зачем же так говорить? Конечно, и я, и вы, надеюсь, хотели бы для всех наших ближних, и живых, и умерших, всего самого лучшего и приятного. Но ведь дело идет не о ваших желаниях, а о том, что, по-вашему, вышло действительно из проповеди и подвига Христа и его последователей.
КНЯЗЬ. Для кого вышло? Для них?
Г[-н] Z. Ну, для них-то известно, что вышла мучительная смерть, но они, конечно, по своему нравственному героизму подвергались ей охотно и не для того, чтобы получить блестящие венцы себе, а для того, чтобы доставить истинное благо другим, всему человечеству. Так я вот и спрашиваю: какими благами мученический подвиг этих людей одарил других-то, все человечество? По старинному изречению, кровь мучеников была семенем церкви. Это фактически верно, но ведь, по-вашему, церковь была искажением и гибелью истинного христианства, так что оно даже совсем было забыто в человечестве и через осьмнадцать веков потребовалось все сначала восстановлять без всяких ручательств лучшего успеха, то есть совсем безнадежно?
КНЯЗЬ. Почему безнадежно?
Г[-н] Z. Да ведь вы же не отрицаете, что Христос и первые поколения христиан всю душу свою положили в это дело и отдали за него жизнь свою, и если тем не менее из этого ничего не вышло, по-вашему, то на чем же для вас-то могут основываться надежды иного исхода? Один только и есть несомненный и постоянный конец всего этого дела, совершенно одинаковый и для его начинателей, и для его исказителей и губителей, и для его восстановителей: все они, по-вашему, в прошедшем умерли, в настоящем умирают, в будущем умрут, а из дела добра, из проповеди истины никогда ничего, кроме смерти, не выходило, не выходит и не обещает выйти. Что же это значит? Какая странность: несуществующее зло всегда торжествует, а добро всегда проваливается в ничтожество.
ДАМА. А разве злые не умирают?
Г[-н] Z. И весьма. Но дело в том, что сила зла царством смерти только подтверждается, а сила добра, напротив, опровергалась бы. И в самом деле, зло явно сильнее добра, и если это явное считать единственно реальным, то должно признать мир делом злого начала. А каким образом люди умудряются, стоя исключительно на почве явной, текущей действительности и, следовательно, признавая явный перевес зла над добром, вместе с тем утверждать, что зла нет и что, следовательно, с ним не нужно бороться, – этого я своим разумом не понимаю и жду помощи со стороны князя.
ПОЛИТИК. Ну а сначала вы свой-то выход из этого затруднения укажите.
Г[-н] Z. Кажется, он прост. Зло действительно существует, и оно выражается не в одном отсутствии добра, а в положительном сопротивлении и перевесе низших качеств над высшими во всех областях бытия. Есть зло индивидуальное – оно выражается в том, что низшая сторона человека, скотские и зверские страсти противятся лучшим стремлениям души и осиливают их в огромном большинстве людей. Есть зло общественное – оно в том, что людская толпа, индивидуально порабощенная злу, противится спасительным усилиям немногих лучших людей и одолевает их; есть, наконец, зло физическое в человеке – в том, что низшие материальные элементы его тела сопротивляются живой и светлой силе, связывающей их в прекрасную форму организма, сопротивляются и расторгают эту форму, уничтожая реальную подкладку всего высшего. Это есть крайнее зло, называемое смертью. И если бы победу этого крайнего физического зла нужно было признать как окончательную и безусловную, то никакие мнимые победы добра, в области лично нравственной и общественной, нельзя было бы считать серьезными успехами. В самом деле, представим себе, что человек добра, скажем Сократ, восторжествовал не только над своими внутренними врагами – дурными страстями, но что ему еще удалось убедить и исправить общественных своих врагов, преобразовать эллинскую политию, – какая польза в этой эфемерной и поверхностной победе добра над злом, если оно торжествует окончательно в самом глубоком слое бытия, над самыми основами жизни? Ведь и исправителю, и исправленным – один конец: смерть. По какой логике можно было бы высоко ценить нравственные победы сократовского добра над нравственными микробами дурных страстей в его груди и над общественными микробами афинских площадей, если бы настоящими-то победителями оказались еще худшие, низшие, грубейшие микробы физического разложения? Тут против крайнего пессимизма и отчаяния не защитит никакая моральная словесность.
ПОЛИТИК. Это уж мы слыхали. А вы-то на что опираетесь против отчаяния?
Г[-н] Z. Наша опора одна: действительное воскресение. Мы знаем, что борьба добра со злом ведется не в душе только и в обществе, а глубже, в мире физическом. И здесь мы уже знаем в прошедшем одну победу доброго начала жизни – в личном воскресении Одного – и ждем будущих побед в собирательном воскресении всех. Тут и зло получает свой смысл или окончательное объяснение своего бытия в том, что оно служит все к большему и большему торжеству, реализации и усилению добра: если смерть сильнее смертной жизни, то воскресение в жизнь вечную сильнее и того и другого, Царство Божие есть царство торжествующей чрез воскресение жизни – в ней же действительное, осуществляемое, окончательное добро. В этом вся сила и все дело Христа, в этом Его действительная любовь к нам и наша к Нему. А все остальное – только условие, путь, шаги. Без веры в совершившееся воскресение Одного и без чаяния будущего воскресения всех можно только на словах говорить о каком-то Царствии Божием, а на деле выходит одно царство смерти.
КНЯЗЬ. Как так?
Г[-н] Z. Да ведь вы же не только признаете вместе со всеми факт смерти, т. е. что люди вообще умирали, умирают и еще будут умирать, но вы, сверх того, возводите этот факт в безусловный закон, из которого, по-вашему, нет ни одного исключения, а тот мир, в котором смерть навсегда имеет силу безусловного закона, как же его назвать, как не царством смерти? И что такое ваше Царство Божие на земле, как не произвольный и напрасный эвфемизм для царства смерти?
ПОЛИТИК. И я думаю, что напрасный, потому что нельзя известную величину заменять неизвестною. Бога ведь никто не видал, и что такое может быть Его Царство – никому не известно; а смерть людей и животных все мы видали и знаем, что от нее, как от верховной власти в мире, никому не уйти. Так зачем же вместо этого а мы будем какой-то х ставить? Кроме путаницы и соблазна «малых», этим ничего не произведешь.
КНЯЗЬ. Я не понимаю, о чем тут разговор? Смерть есть явление, конечно, очень интересное, можно, пожалуй, называть ее законом, как явление постоянное среди земных существ, неизбежное для каждого из них; можно говорить и о безусловности этого «закона», так как до сих пор не было достоверно констатировано ни одного исключения, – но какую же все это может иметь существенную жизненную важность для истинного христианского учения, которое говорит нам через нашу совесть только об одном: что мы должны и чего не должны делать здесь и теперь? И ясно, что голос совести может относиться только к тому, что в нашей власти делать или не делать. Поэтому совесть не только ничего не говорит нам о смерти, но и не может говорить. При всей своей огромности для наших житейских, мирских чувств и желаний смерть не в нашей воле и потому никакого нравственного значения для нас иметь не может. В этом отношении – а оно ведь есть единственно важное по-настоящему – смерть есть такой же безразличный факт, как, например, дурная погода. Что я признаю неизбежное периодическое существование дурной погоды и более или менее терплю от нее, так неужели поэтому я должен вместо Царства Божия говорить: царство дурной погоды?
Г[-н] Z. Нет, не должны, во-первых, потому, что она царствует только в Петербурге, а мы вот с вами приехали сюда, к Средиземному морю, и смеемся над ее царством; – а во-вторых, ваше сравнение не подходит потому, что и при дурной погоде можно Бога хвалить и чувствовать себя в Его царстве, ну а мертвые, как сказано в Писании, Бога не хвалят, а потому, как заметил и его высокопревосходительство, этот печальный мир приличнее называть царством смерти, нежели Царством Божиим.
ДАМА. Ну что вы все об названиях, – это скучно! Разве дело в названиях? Скажите лучше, князь, что вы, собственно, разумеете под Царством Божиим и правдой Его?
КНЯЗЬ. Я разумею такое состояние людей, когда они действуют только по чистой совести и таким образом исполняют волю Божию, которая предписывает им одно только чистое добро.
Г[-н] Z. Но притом голос совести, по-вашему, говорит непременно только об исполнении должного теперь и здесь.
КНЯЗЬ. Разумеется.
Г[-н] Z. Ну а разве ваша совесть совсем молчит насчет того недолжного, что вы делали, положим, в отрочестве относительно лиц давно умерших?
КНЯЗЬ. Тогда смысл этих напоминаний в том, чтобы я ничего подобного не делал теперь.
Г[-н] Z. Ну, это не совсем так, но спорить об этом не стоит. Я хочу вам только напомнить другую, более несомненную границу совести. Уже давно моралисты сравнивают голос совести с тем гением, или демоном, который сопровождал Сократа, предостерегая его от недолжных поступков, но никогда не указывая положительно, что ему нужно делать. Совершенно то же можно сказать и про совесть.
КНЯЗЬ. Как же это так? Разве совесть не внушает мне, например, помочь моему ближнему в известных случаях нужды или опасности?
Г[-н] Z. Очень приятно слышать это от вас. Но если вы хорошенько разберете такие случаи, то увидите, что роль совести и здесь оказывается чисто отрицательною: она требует от вас только не оставаться бездейственным или равнодушным перед нуждой ближнего, а что и как именно вы должны для него сделать – этого сама совесть вам не говорит.
КНЯЗЬ. Ну да, потому что это зависит от обстоятельств дела, от положения моего и того ближнего, которому я должен помочь.
Г[-н] Z. Разумеется, а оценка и соображение этих обстоятельств и положений ведь не есть дело совести, а ума.
КНЯЗЬ. Но разве можно отделять разум от совести?
Г[-н] Z. Отделять не нужно, но различать должно именно потому, что в действительности иногда происходит не только отделение, но и противоположение между умом и совестью. Если бы они были одно и то же, то каким образом мог бы ум служить для дел не только посторонних нравственности, но и прямо безнравственных? А ведь это же бывает. Ведь даже помощь может быть подана умно,