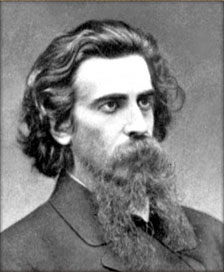известиях» под его же редакцией. Прошу же его сказать, предлагал ли я когда-нибудь (в помянутых ли статьях или где бы то ни было) для этого объединения другой путь, кроме свободного и сознательного, на всестороннем обсуждении спорных пунктов основанного соглашения обеих сторон? Указывал ли я другое практическое средство для желанной мною цели, кроме полной религиозной и научной свободы? Утверждал ли я когда-нибудь, что «духовное царство» Рима есть совершенный идеал всемирного единства? А затем прошу его сообразить, что заведомо ложное причисление им меня к сторонникам насильственного объединения тем более неприлично, что самые близкие и реальные примеры такого объединения находятся, как ему хорошо известно, совсем не там, где он их указывает.
III
«Обо всей истории (?) культурно-исторических типов, об этой „естественной системе“ истории г-н Соловьев, на основании своего разбора, произносит следующий заключительный приговор: это система, соединяющая разнородное и т. д. Боже! как громко и резко, а какая путаница! Я хочу сказать, что тут набраны всякие, самые разнородные, но все общие упреки, так что эту характеристику можно отнести ко всякому очень плохому рассуждению» («Р. в.», с. 219). В общем заключении из подробного разбора теории Данилевского я только то и хотел сказать, что эта теория принадлежит к числу «очень плохих рассуждений». А частные основания для этого общего суждения находятся в самом разборе. Но на г-на Страхова мне не угодить. С одной стороны, он недоволен «общими упреками», а с другой – ему не нужны «частные доказательства». «Если система Данилевского, – продолжает он, – несостоятельна, то, очевидно, нужно открыть ее главный грех, и тогда мы вполне поймем ее несостоятельность, и не нужно будет подбирать разных частных доказательств, из которых не выходит одного общего» («Р. в.», с. 219, 220). Главный грех в «системе» Данилевского состоит в том, что она основана на мнимой величине, ибо культурно-исторических типов в смысле Данилевского, как это указано и, с вашего позволения, доказано в моем разборе, не существует и никогда не существовало в действительности. Г-н Страхов сам это знает, а потому и старается как-нибудь обойти мои частные доказательства.
Вместо того чтобы показать мне действительность выдуманного Данилевским деления, г-н Страхов пускается в длинное рассуждение о естественной системе вообще. Рассуждение это начинается такими словами: «Прежде всего, г-н Соловьев, без сомнения, вовсе не понимает требований естественной системы» («Р. в.», с. 220), – а продолжается на следующей странице так: «Должно быть, однако же, г-н Соловьев кое-что знает о естественной системе». Это великодушное противоречие не соблазняет меня, однако, настаивать на своем понимании естественной системы. Я рад и тому, что с полною ясностью понял то боковое движение, посредством которого г-н Страхов хочет уйти от «рокового вопроса» о действительности культурно-исторических типов. Поговоривши достаточно о равнобедренных треугольниках и т. п., искусный критик выбирает, наконец, изо всех моих возражений одно, наименее важное, но не для того, чтобы его опровергать, а ради такого заключения: ну что за беда? одна ошибка не в счет! ведь это только при непонимании естественной системы можно воображать, что она должна быть сразу вполне точною и безошибочною! У читателя, которому г-н Страхов «помогает» в этом деле, так и остается впечатление, что в теории Данилевского указана только одна ошибка, да и то маловажная. Но неожиданно для почтенного критика в числе его читателей оказался и я, и тут уже ему придется помогать самому себе. Мне-то уж он не станет говорить об «одной» ошибке, когда я показал, что защищаемая им теория вся сплошь состоит из ошибок и, следовательно, ни в каком случае «естественною системой» быть не может. По справедливому замечанию г-на Страхова, ошибочное причисление кита к рыбам не мешало сим последним составлять естественную группу. Но что бы он сказал о такой зоологической системе, которая сверх причисления кита к рыбам разделяла бы всех животных на пять классов: рыб, канареек, лошадей, млекопитающих и медведей? Была ли бы это тоже «естественная» система, только нуждающаяся в поправках для своего совершенства? Если г-н Страхов уверен, что такое сравнение не идет к защищаемой им исторической классификации, если он допускает в ней в самом деле только одну ошибку, то ему следовало бы доказать, что все остальные мною выдуманы. Но у него другая забота: терзаемый раскаянием, что сделал мне одну, хотя кажущуюся, но все-таки уступку, он предпринимает новый, еще более искусный и сложный маневр, чтобы обратить признанный им промах в заслугу Данилевскому. Сначала говорилось так: «Кит, о котором идет речь, – финикияне. Данилевский вовсе не рассуждает об этом народе и его истории; он только голословно, ссылаясь на одну лишь общеизвестность, соединил его (в своем перечислении типов) в один тип с ассириянами и вавилонянами» («Р. в.», с. 222). А через страницу (с. 224) оказывается, что Данилевский поступил так потому, что «вздумал воевать против того недостатка научной строгости, который так обыкновенен в исторических сочинениях и так по душе приходится г-ну Соловьеву». И далее: «Данилевский пожелал ясного и точного распределения фактов, общей группировки их по степени их естественного сродства, и предложил теорию культурных типов. Вот его преступление против тех, кому низшие требования науки мешают предаваться высшим полетам» (с. 225). Таким образом выходит, что автор «культурно-исторических типов» голословным утверждением по предмету, ему неизвестному и, однако, прямо входящему в его задачу, доказал свою научную строгость и стремление к точному распределению фактов, а я, указавши на ошибочность его голословного утверждения, обнаружил тем презрение к низшим требованиям науки. Ну разве это не верх полемического искусства?
Менее искусно, но, быть может, еще более удачно, со своей точки зрения, поступает г-н Страхов по поводу одной из логических несообразностей в классификации культурных типов. Эти последние, по Данилевскому, расчленяются на меньшие этнографические группы; так, напр., на с. 105 своей книги (изд. 2-е) он расчленял эллинский культурно-исторический тип на три группы: ионийскую, дорийскую и эолийскую. Но так как по его системе вся романо-германская Европа есть не более как один из культурно-исторических типов наряду с Грецией, то и выходит явное противоречие логическому правилу, требующему, чтобы расчленения однородных групп находились в аналогическом отношении или соответствии между собою. Этого-то соответствия и нет между романо-германскою Европой и Грецией; ибо первая расчленяется на целые великие народы, говорящие совершенно различными языками (как, напр., англичане и испанцы), тогда как в Греции ее подразделения: ионийцы, дорийцы и эолийцы – были лишь близкие между собою ветви одного и того же народа, говорившие одним и тем же языком, лишь с незначительными диалектическими различиями. Г-н Страхов хорошо понимает, что эта несообразность поважнее «кита» и что ее одной вполне достаточно, чтобы в корне подорвать всю систему Данилевского, которая ведь для того только и придумана, чтобы отнять у «Европы» всякое универсальное значение и низвести ее на степень одного из многих типов культуры. Ввиду этого г-н Страхов, полагаясь, с одной стороны, на невнимательность читателей, а с другой стороны, на достоверность единомышленных ему газет, утверждавших, что я «выбыл из строя», решился на отчаянное средство: он прямо и просто утверждает, что Данилевский никогда и не думал об этнографическом расчленении своих типов. Читайте сами: «Никогда этой мысли не было у Данилевского. Под членами он тут понимал всякого рода исторические события и хотел сказать, что только события, относящиеся к истории одного культурного типа, бывают связаны между собою столь же тесно, как события другого типа между собою» («Р. в.», с. 225). Пощадите хоть мертвых, г-н Страхов! Подумайте хорошенько, чт? вы тут возвели на вашего покойного друга! Ведь его культурные типы, как вы сами перед тем настойчиво утверждали на с. 218, суть анатомические группы, и вдруг эти анатомические группы расчленяются на события! Из каких «событий» состоит запястье у млекопитающих, почтенный магистр зоологии? Какое безмерное презрение к своей публике нужно иметь, чтобы предлагать ей такие «сапоги всмятку»! Но пусть читатели «Русского вестника» считаются сами с г-ном Страховым за это явное оскорбление. Меня более интересует та смелость, с которою он отрицает фактическую истину. Ведь это факт, что Данилевский принимал этнографическое расчленение культурных типов. Или, разделяя греческий тип на ионийцев, дорийцев и эолийцев, он и мысли не имел об этнографическом расчленении? Следует надеяться, что г-н Страхов не прострет своего полемического искусства до того, чтобы в новом издании «России и Европы» выпустить из текста все неудобные ему страницы. Я знаю, впрочем, немало примеров такого «строго научного» исправления книг и документов, и г-н Страхов, следуя этим путем, не вышел бы из пределов современной русской «самобытности». Заметим, однако, что маленькие полемические победы, достигаемые подобными дешевыми способами, совершенно призрачны. Положим, например, что г-ну Страхову удалось надеть шапку-невидимку на с. 105 в книге «Россия и Европа» – разве от этого действительное значение этнографических расчленений сколько-нибудь изменится? Различие между французами и шведами останется все-таки несоизмеримо б?льшим, нежели между ионийцами и эолийцами, и все-таки невозможно будет ставить на одну доску такую многонародную группу, как Европа, с такими простыми национальными единицами, как Китай, Египет или Греция.
IV
Если г-н Страхов не усомнился даже покойному Данилевскому приписать явную нелепость о расчленении анатомических групп на события, то нечего удивляться, что он мне приписывает, хотя и с противоположными целями, не меньшую нелепость, а именно, будто бы, по-моему, приведение в движение и остановка маятника не суть явления движения и могут совершаться вопреки механическим законам. Чтобы навязать мне эту несообразность, он приводит мой пояснительный пример без начала и конца – без конца в полном смысле, так как обрывает его на слове: которой. – Это рассуждение, замечает г-н Страхов, «чрезвычайно просто». Особенно просто сделалось оно с тех пор, как он упростил его по способу того мифического разбойника, который отрубал голову и ноги у путешественников неподходящего для него роста.
Прошу позволения привести упрощенное г-ном Страховым рассуждение (оно и так невелико), чтобы видно было, зачем почтенному критику поневоле пришлось остановиться на слове «которой». «Истины механики и физики суть непреложные законы в порядке материальных явлений; но распространяемость этих законов на область действующих причин, их безусловное значение для всех возможных порядков бытия – это есть вопрос философского умозрения, а не истина положительной науки. (Отселе начинается цитата г-на Страхова.) Маятник качается по строго определенным законам механики; но признавать далее, что и остановлен, и приведен в движение маятник может быть исключительно только механическою причиной, – значит из области научной механики переступать на почву той умозрительной системы, для которой… (здесь прерывается мое «упрощенное» рассуждение) – для которой и человек, нарочно останавливающий маятник по каким-нибудь психическим побуждениям, есть,