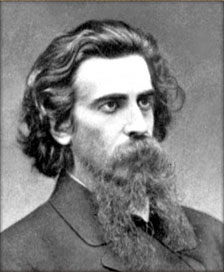добросовестным писателем во всей вселенной. В противном же случае мне придется – оставляя без последствий ссылку г-на Страхова на ответ, которого он никогда не давал, – настаивать на том грустном факте, что не в меру сердитый защитник «культурных типов», обозначая их как анатомические группы, вместе с тем утверждает, что они расчленяются на события, следовательно, никакой действительной мысли с основным термином защищаемой им теории не соединяет.
Как яркую иллюстрацию избранного им эпиграфа: «не по хорошу мил, а по милу хорош», г-н Страхов приводит из книги Данилевского и сопровождает выражениями своего восторга несколько общих фраз о еврействе, какие тысячи раз повторялись всеми писавшими об этой нации и ее религии (с. 3, столб. 5). Что избитые общие места не только удовлетворяют г-на Страхова, но и приводят его в восхищение, это – его дело, и греха тут нет; что все, не совпадающее с излюбленною им умственною плоскостью, возбуждает в нем, по его собственному выражению, «злую досаду», – это не совсем хорошо, но довольно понятно, и большой беды тут также нет. Беда в том, что и «восхищение», и «злая досада», служат для г-на Страхова лишь способом отвлечь внимание читателей от существенных пунктов спора. Тот факт, что национальная религия евреев получила универсально-историческое значение, настолько очевиден, что указание на него есть не более как общее место. Но вопрос в том, как же с этим общеизвестным фактом согласить выставленный Данилевским мнимо исторический закон, по которому духовные начала одного культурного типа не передаются другим? Еврейство – по Данилевскому – есть особый культурный тип, и, следовательно, выработанное им духовное начало не могло сделаться (если бы только существовал упомянутый закон) религией многих других (Данилевский со свойственною ему точностью говорит: «всех») народов, принадлежащих не к этому, а к иным культурным типам. Это явное противоречие было указано г-ну Страхову неоднократно, но вотще: он готов говорить о чем угодно, – только не об этом.
Помимо еврейства, существуют еще другие всемирно-исторические факты, несовместные с мнимым законом духовной непроницаемости культурных типов (буддизм, неоплатонизм и гностицизм, ислам). Примирить эти действительные факты с мнимым историческим законом Данилевского г-н Страхов не может, а сознаться в этой основной несостоятельности защищаемой им теории – не хочет. Поэтому ему не остается ничего другого, как подменить вопрос. «О чем, – восклицает он, – Данилевский не говорит, того он не знает, – хорош вывод!» (с. 3, столб. 4). Кому же, однако, принадлежит такой вывод? Дело не в том, о чем Данилевский не говорит, а в том, что он говорит, и именно в его мнимом законе непередаваемости духовных начал от одного культурного типа другим; этому «закону» прямо противоречат указанные исторические явления, и, следовательно, при достаточном знакомстве с ними Данилевский не мог бы выставить своего столь неверного принципа, – разве только предположить, что этот писатель был крайне несообразителен или крайне недобросовестен, чего я о нем не думал и не думаю. Что главное дело тут в простом незнакомстве автора «Россия и Европа» с историческими фактами – на это существуют не отрицательные только, но и прямые положительные указания. Из того, что Данилевский не упоминает, например, о Филоне-иудее, никак не следует (по справедливому, хотя и неуместному замечанию г-на Страхова), чтобы он о нем не знал. Но когда он прямо утверждает, что все представители так называемого «александрийского» просвещения были чистые греки и что никакого духовного объединения разноплеменных начал в Александрии не происходило, то это уже с полною несомненностью доказывает, что он ничего не знал о Филоне-иудее и о множестве других «александрийцев», не принадлежавших к греческой нации и работавших именно над синтезом эллинской мудрости с религиозными идеями «варваров», т. е. с духовными началами иудейского, египетского, халдейского и т. д. «культурных типов», – употребляя терминологию Рюккерта – Данилевского.
Наиболее стараний приложил г-н Страхов к защите политических взглядов Данилевского, причем также не обошлось без счастливых мыслей. Так, выражая свое негодование по поводу моего, будто бы голословного, упрека автору «России и Европы» за принесение живых народностей в жертву мнимым интересам панславизма, г-н Страхов изумляется и тому, что я называю славянство, как его понимал Данилевский, фантастическою группою («Новое время» № 5242, с. 2, столб. 5), а затем на следующей странице сам приводит из «России и Европы» слова, в которых автор отрицает право на существование одной из упомянутых народностей, называя ее фантастическою («фантастический польский народ») (с. 3, столб. 5).
По мнению г-на Страхова, книга «Россия и Европа» вся проникнута и переполнена обращением к этическому принципу, и он удивляется, что я этого не заметил. Действительно, не заметил; но ведь зато я заметил кое-что другое, – например, утверждение Данилевского, что оба западные вероисповедания представляют собою безусловную ложь, причем одно из них, сверх того, основано на невежестве, а другое – на отрицании религии. Об этом г-н Страхов не упоминает, но зато он взводит на меня два взаимно друг друга уничтожающие обвинения. С одной стороны, я виноват в том, что, выписывая различные рассуждения разбираемого автора, не прибавляю к ним ни единого слова от себя (с. 2, столб. 7), а с другой стороны, я подвергаюсь резкому порицанию за то, что приписываю своим противникам «глупости и подлости» (с. 3, столб. 7). Хотя сам я от таких слов в печати воздерживаюсь, но оспаривать их по существу не стану, если г-ну Страхову угодно их применить к некоторым мнениям моих противников, которые я воспроизвожу, не прибавляя к ним ни единого слова от себя. Нет! «злая досада» – плохой советник!
Г-н Страхов кончает свой «разбор» – говоря, что ему нет ни нужды, ни охоты разбирать множество других подобных выходок, т. е. большую часть моей статьи «Мнимая борьба с Западом». Заявление довольно наивное в конце длинного полемического упражнения. Затем этот воздержный критик находит, однако, нужду и охоту сетовать на нашу оторванность от почвы и внушать любовь к исторической, а не к мечтательной России. Подобные «жалкие» слова говорятся, конечно, не для того, чтобы что-нибудь сказать, а лишь для того, чтобы скрыть в данном случае бессилие мысли и шаткость убеждений. Россия велика, и разных почв в ней много: от иной почвы быть оторванным дай Бог всякому. И что значит противоположение исторического мечтательному, когда дело идет о народе живом, не завершившем свою историю, имеющем будущность? Россия, освобожденная от крепостного права, была Россией мечтательной сорок лет тому назад, и тогдашние предшественники г-на Страхова, утверждаясь на исторической почве, произведшей Салтычиху и Аракчеева, злобно брюзжали на всякую мысль о человеческих правах крестьянства, как на мечту беспочвенных умов, создающих «крылатые теории» в безвоздушном пространстве. Так и добрюзжали до 19 февраля 1861 г. Впрочем, со свойственною ему твердостью мысли г-н Страхов свои последние слова сам посвящает какой-то мечтательной России, которая должна открыть источники живой воды для воскрешения и напоения чуждых народов. Мечта возвышенная, хотя до крайности неопределенная. Допустим, что г-н Страхов в нее верит и надеется на ее осуществление. Но – повторим еще раз его собственные слова из «Рокового вопроса»: «Только верить мало, и только тешить себя надеждами – неизвинительно». А еще неизвинительнее – особенно для такого способного и образованного писателя, как он, – фальшивыми аргументами поддерживать пустые претензии, вместо того чтобы по мере сил работать над очищением наших «источников живой воды» от грязной тины, которая их затянула и заглушила.
VII
Немецкий подлинник и русский список
I
Вопрос об оригинальности и новизне той или другой идеи, того или другого открытия – представляет, вообще говоря, мало интереса. Какой-нибудь пифагореец мог догадываться о центральном положении солнца относительно планет, тем не менее настоящий взгляд на солнечную систему несомненно принадлежит Копернику, ибо важно здесь не случайное приближение единичного ума к истине, а общее правильное развитие астрономии как науки, – оно же бесспорно идет от Коперника, а не от Пифагора. Норманнские пираты (а, может быть, задолго до них и финикийские купцы) доходили не раз до берегов Нового Света, но все-таки открытие Америки по справедливости приписывается не им, а Христофору Колумбу, ибо только после его путешествий заатлантические страны навсегда были присоединены к остальному миру и вошли в общее историческое движение. С другой стороны, когда два современника независимо друг от друга приходят к одинаковым умственным построениям (как это случилось с Ньютоном и Лейбницем в теории бесконечно малых), то вопрос о первенстве и о праве исключительной собственности имеет интерес более для них самих, нежели для потомства, которое охотно готово утвердить обоих в правах общего владения и вовсе не обязано признавать одного из них плагиатором.
Но возможны условия, при которых вопрос об оригинальности известного умственного явления имеет решающее значение для всей оценки этого явления. Берем прямо тот конкретный случай, о котором намерены говорить. Является в России писатель, объявляющий, что Европа есть для нас мир безусловно чуждый, с которым мы не связаны ни кровным, ни духовным родством и с которым нам неизбежно предстоит вступить в борьбу не на живот, а на смерть. Такое отношение к Европе этот писатель, получивший сам хоть и одностороннее и во многом недостаточное, но все-таки европейское образование, старается оправдать особенным взглядом на всю историю человечества. Эту историческую теорию он сам, а еще более два-три его приверженца выдают за нечто совершенно самобытное, за продукт русского духа, освободившегося наконец в лице этого автора и его сторонников от болезни «европейничанья». И вот эта самобытная русская теория, долженствующая упразднить все европейские принципы исторической науки, оказывается плохим повторением взглядов, высказанных в книге третьестепенного немецкого ученого, появившейся за двенадцать лет перед тем. Конечно, теория немецкого ученого не стала ни лучше, ни хуже от того, что русскому писателю вздумалось повторить ее своими словами, привязавши к ней собственные псевдопатриотические взгляды. Но эти-то взгляды, сущность которых состоит в отрицании нашего духовного родства с европейским просвещением[244] , без сомнения, жестоко посрамляются тем обстоятельством, что для их теоретического обоснования, хотя бы только кажущегося, потребовалось взять напрокат одно из дюжинных произведений немецкого ума.
Правда, г-н Страхов, сам указавший на общность взглядов у Данилевского с Рюккертом, утверждает теперь, что автор книги «Россия и Европа» не читал немецкого историка. Но ведь тот же г-н Страхов не менее решительно уверяет нас и в том, что Рюккерт вовсе не употребляет ни слова культурно-исторический, ни слова тип, терминов Данилевского, а между тем на самом деле эти мнимые термины Данилевского в одной маленькой главе немецкой книги повторяются всего двадцать три раза[245] . При таком самостоятельном отношении г-на Страхова к истине, его свидетельство о незнакомстве Данилевского