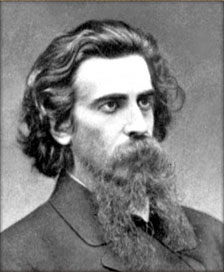не бывает в нашем мире; организм, не имеющий совсем этих элементов и потому более равномерный в своем составе, может существовать, но это – организм низшего порядка. Оставляя, впрочем, в стороне сравнение между обществом и организмом, так как его законность может оспариваться и им действительно много злоупотребляли, едва ли кто-нибудь найдет несправедливым, что не все греки, а только один Фидий изваял статую Зевса Олимпийского: если он ее предоставил всем, то этого совершенно достаточно для самого тонкого чувства справедливости. Я решительно не вижу никакой обиды для народных масс в том, что они не сами изобрели паровую машину, – лишь бы только они имели возможность дешево пользоваться железными дорогами и прочими приложениями паровой силы. Я ценю культурное расчленение, благодаря которому в России кроме земледельцев существует еще и Пушкин, но, разумеется, я при этом желаю, чтобы весь русский народ мог наслаждаться поэзией Пушкина. Никакая справедливость не предписывает, чтобы все делали одно и то же; требуется только, чтобы каждый трудился не для одного себя, чтобы сделанное одним или немногими могло быть общим достоянием. И вот этой-то простейшей, ультраазбучной истины, без которой вся история есть бессмыслица, не хотят понять и принять ни наши крепостники по своему своекорыстию, ни наши народопоклонники по своему недомыслию. Первые, вообще не отрицая высшей культуры (по крайней мере некоторых ее сторон), желали бы оставить ее для себя, в свое исключительное пользование. Они хотят лишить народные массы даже первого элементарного средства всякой культуры – грамотности, под тем благовидным предлогом, что с грамотностью удобнее проникнут в народ всякие лжеучения, а также легче будет мужикам писать фальшивые векселя. Особенно в этом последнем пункте наши censores morum[302] вполне компетентны, но вообще следует заметить, что они вместе с даром непогрешимого различения ложных и истинных учений, очевидно, получили также и дар особой логики. По этой логике следовало бы кроме грамотности отнять у народа и огонь в предупреждение пожаров, а также и воду, ибо колодцы могут ведь быть отравлены злонамеренными людьми.
Что касается наших народопоклонников (последней формации), то они, частью по недостаточности своего образования, частью по предвзятой фальшивой идее, видят какую-то аномалию и несправедливость в том, что есть необходимое условие для всякого усовершенствования человеческой жизни, – в разделении труда. Провести последовательно их дикую идею нет никакой возможности. Чтобы пахать землю, нужны орудия с металлическими частями, следовательно, нужно горное и металлургическое дело; и уже с древнейших времен этим делом должен был заниматься особый класс людей, помимо землепашцев. Вот уже, значит, из самой природы вещей возникает разделение труда и начало цивилизации. Но ведь не случайно же явились и дальнейшие осложнения культуры, дальнейшие ступени исторического процесса, и остановить его где нам угодно или вернуть назад, к произвольно выбранной нами стадии, – это все равно что «опростить» животное царство, вернувши его, например, к формам животных беспозвоночных, так как у высших животных более развиты дурные инстинкты и много лишних органов.
Всего лучше основная мысль наших упростителей выражена и заранее опровергнута в гениальном рассказе гр. Л. Н. Толстого «Три смерти». Здесь представлено, как умирают культурная барыня, мужик и дерево. Барыня умирает совсем плохо, мужик значительно лучше, и еще гораздо лучше дерево. Это происходит, очевидно, оттого, что жизнь мужика проще, чем жизнь барыни, а дерево живет еще проще, чем мужик. Но если из этого несомненного факта можно выводить какое-нибудь нравственно-практическое следствие, отождествляя простоту с высшим благом, то зачем же останавливаться на мужике, а не доходить до дерева, которое проще мужика, или еще лучше – до камня, который так прост, что даже совсем не умирает. А всего проще, конечно, чистое небытие, – недаром наши упростители стали в последнее время выказывать особую склонность к буддизму… Или, быть может, несправедливо прилагать логические требования к взглядам людей, отказавшихся от теоретической деятельности и ставших исключительно на нравственно-практическую почву? Но и на этой почве они во всяком случае могли бы принять во внимание тот несомненный факт, что историческим развитием культуры обусловливается и более полное и широкое применение той идеи социальной справедливости, за которую они стоят. Чтобы не ходить далеко, – чем обусловлено было упразднение крепостного права в России, как не тем, что с преобразованиями Петра Великого выделился у нас из народного целого особый культурный класс, получивший средства к усвоению общечеловеческого просвещения и его гуманных идей? Величайший акт социальной справедливости в нашей истории, конечно, не мог бы совершиться, если бы Радищев, Тургенев, Самарин, Милютин, Черкасский прониклись стремлением к «опрощению» и вместо своей литературной, общественной и политической деятельности предались паханию земли. Их собственные крестьяне при этом и были бы, может быть, отпущены на волю, но крепостное право вообще осталось бы в своей силе. Не было бы оно уничтожено и в том случае, если бы преобразовательной ломки Петра Великого вовсе не произошло, и названные деятели, подобно их предкам, должны были бы заседать в боярской думе или в холопьем приказе, отличаясь от своих крепостных только более богатыми кафтанами, а не европейским образованием.[303]
Итак, оба рассмотренные взгляда – крепостнический и народопоклоннический – при видимой своей противоположности, оказываются одинаково противохристианскими, противонародными и противоисторическими. Оба взгляда основаны на эгоизме: крепостники своекорыстно ищут сохранения и развития сословных привилегий; народопоклонники ищут своего личного удовлетворения в опрощении и мнимом уподоблении себя народной массе, которой от этого ни тепло, ни холодно. И те и другие – чужды и противны народу: одни прямо враждебно сталкиваются с его насущными интересами и мечтают закабалить его себе; другие отказываются отвечать на действительные потребности народа и отнимают у него ту пользу, которую могли бы принести, содействуя общему прогрессу страны в качестве людей культурных – ученых, учителей, техников, лекарей и даже хотя бы честных торговцев, промышленников и чиновников. Наконец, оба эти направления на свою беду одинаково, хотя с разных сторон, противоречат общему ходу истории, который клонится, во-первых, к наибольшему осложнению культурных форм и, следовательно, к полнейшему разделению культурного труда, – но вместе с тем, во-вторых, и к наибольшему уравнению всех в пользовании произведениями этого труда, к наиболее справедливому распределению общего достояния. Народопоклонники-упростители восстают против самого факта культурного осложнения, а крепостники – против справедливого распределения культурных благ. И те и другие должны видеть в истории человечества какую-то ошибку. Гораздо легче, конечно, признать ошибкою их собственные бредни. Эта ошибка отягчается грубым своекорыстием, с одной стороны, и слепою враждой к просвещению и науке – с другой. По счастью, как сказал один поэт —
Не заткнешь ее теченья
Ты своей дрянною пробкой…[304]
В противоположность этим двум социальным ересям, из коих одна стремится разделить нацию на два враждебные стана, а другая – слить ее в бесформенную массу, мы утверждаем нравственно-органическую солидарность между простым народом и образованным классом и обязанность для этого последнего культурно служить народу, проводя в его жизнь не собственные измышления и своекорыстные затеи, а единственно твердые и единственно плодотворные начала общечеловеческого просвещения и вселенской правды. Двум идолам сословного обособления и простонародного безразличия, – идолам, которых поклонники или требуют чужой крови, как жрецы привилегированных богов Тира и Карфагена, или же сами лишают себя жизненной силы, подобно служителям простонародных божеств фригийских, – мы противопоставляем светлый и благотворный христианский идеал всеобщей солидарности и свободного развития всех живых сил человечества. Конечно, пока этот идеал остается только общим местом или пустою фразою, никто против него спорить не станет, им даже охотно прикрываются из приличия разные идолопоклонники. Но беда, если ту общую истину, которую все признают на словах, кто-нибудь захочет применить к делу или хотя бы только к суждению о действительных проявлениях лжи и зла в мире. Но именно такое развитие христианской идеи и составляет нашу задачу.
IV
Меня укоряли в последнее время за то, что я будто бы перешел из славянофильского лагеря в западнический, вступил в союз с либералами и т. п. Эти личные упреки дают мне только повод поставить теперь следующий вопрос, вовсе уже не личного свойства: где находится ныне тот славянофильский лагерь, в котором я мог и должен был остаться? кто его представители? что и где они проповедуют? какие научно-литературные и политические органы печати выражают и развивают «великую и плодотворную славянофильскую идею»? Достаточно поставить этот вопрос, чтобы сейчас же увидеть, что славянофильство в настоящее время не есть реальная величина; что никакой «наличности» оно не имеет и что славянофильская идея никем не представляется и не развивается, если только не считать ее развитием тех взглядов и тенденций, которые мы находим в нынешней «патриотической» печати. При всем различии своих тенденций, от крепостнической до народнической и от скрежещущего мракобесия до бесшабашного зубоскальства, органы этой печати держатся одного общего начала – стихийного и безыдейного национализма, который они принимают или выдают за истинный русский патриотизм; все они сходятся также и в наиболее ярком применении этого псевдонационального начала – в антисемитизме. Вот тот действительный «лагерь», к которому принадлежат мои почтенные противники, но в котором я никогда не находился, а потому и не мог никуда из него перейти.
Вместо напрасных, хотя и лестных для меня сетований на этот мнимый выход из несуществующего славянофильского лагеря, следовало бы объяснить действительный факт его исчезновения; объяснить, почему славянофильская идея сошла со сцены, ничего не сделавши, почему она не возвысила, не одухотворила и не осмыслила наш стихийный патриотизм чрез сознательное выражение в нем лучших качеств русского национального характера, его всеобъемлющей широты и миролюбия, а, напротив того, с такою легкостью сама уступила место рабскому воспроизведению ходячего во всех странах и ничуть не русского шовинизма и политического кулачества, так что лишь благодаря мудрой и истинно русской (т. е. миролюбивой) внешней политике нашего правительства Россия избавлена до сих пор от недостойных христианского народа и нисколько не оригинальных воинственных предприятий?
Конечно, и в старом славянофильстве был зачаток нынешнего национального кулачества, но были ведь там и другие элементы, христианские, т. е. истинно гуманные и либеральные. Куда же они теперь девались? Уж не перенес ли я их с собою в «западнический лагерь», где, впрочем, они и без меня присутствовали? Во всяком случае, если славянофильство было когда-нибудь живым целым, то ныне этого целого более не существует; оно распалось на составные элементы, из коих одни по естественному сродству вошли в соединение с так называемым «западническим лагерем», а другие столь же естественно были притянуты и поглощены крепостничеством, антисемитизмом, народничеством и т. д. Но если славянофильство подпало такому химическому процессу, то ясно, что оно перестало