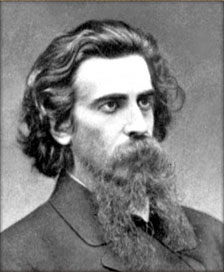толпою, всех крестьян перебьют, дома сожгут, жен уведут в полон, а князья в это время своими усобицами занимаются»221. — Жалость к э тим крестьянам, чтобы не ограничиваться одними чувствительными словами, должна была естественно перейти в организацию крепкой и единой государственной власти, достаточной для защиты крестьян от княжеских усобиц и половецких набегов.
Когда в другой стране величайший ее поэт восклицал с глубокою скорбью, которую он показал не на одних только словах:
Ahi, serva Italia dei dolor’ ostello,
Nave senza nocchiero in gran tempesta!180 — та же самая жалость прямо побуждала его призывать из-за Альп верховного носителя государственной власти, установителя общественного порядка, сильного защитника от непрерывных и нестерпимых мелких насилий: и эта сказавшаяся в стольких местах «Божествен ной комедии» жалость к действительным бедствиям Италии, и это обращение к полновластному государству, как необходимому средству спасения, приняли у Данта форму отчетливого, продуманного убеждения в книге «О Монархии».
Бедствия безгосударственной или слабогосударственной жизни, вызывавшие жалость Владимира Мономаха или Данта, упраздняются или ограничиваются только крепким государством и с его исчезновением возникли бы непременно опять. Чисто нравственные побуждения, вн утренно удерживающие людей от взаимного истребления, бывшие явно недостаточными в XII и XIII веке, хотя, может быть, развились и усилились в настоящее время (вопрос спорный), но чтобы они стали теперь вполне достаточными сами по себе — об этом смешно и г оворить, и если жители итальянских городов не проявляют свою партийную вражду в ежеминутной резне, то слишком ясно, что этим они обязаны только принудительному строю государства с его войском и полицией. Что касается до России, то, не говоря о княжеских
усобицах и о кулачных «народоправствах», те дикие инородческие элементы, которые московское царство и всероссийская империя с таким трудом и постепенностью оттесняли все далее и далее к пределам страны, без сомнения, более покорились, чем переродились, и , если бы на закавказской, туркестанской и сибирской границах штык и пика — избави Боже — исчезли или ослабели, всякому моралисту пришлось бы сразу понять истинную сущность этих превосходных учреждений181.
Как церковь есть собирательно-организованное благочестие, так государство есть собирательно-организованная жалость. Поэтому утверждать, что христианская религия по существу отрицает государство, — значит утверждать, что эта религия по существу отрицает ж алость. На самом же деле евангелие не только настаивает на нравственно-обязательном значении жалости, или человеколюбия, но решительно подтверждает и тот уже в Ветхом завете высказанный взгляд, что без человеколюбия не может быть и истинного благочестия: «Милости хощу, а не жертвы»222.
Если же признавать жалость в принципе, то уже логически необходимо допускать и ту историческую организацию общественных сил и дел, которая выводит жалость из состояния бессильного, или тесно-ограниченного, чувства, дает ей действительность, широкое приме нение и развитие. Если я стою на точке зрения жалости, то я не могу отрицать то учреждение, благодаря которому можно на деле жалеть, т.е. давать помощь и защиту вместо десятков и самое большое сотен единиц — десяткам и сотням миллионов людей.
Определение государства (со стороны его нравственного смысла) как организованной жалости может отрицаться только по недоразумению. Некоторые из таких недоразумений нам нужно рассмотреть прежде, чем перейти к понятию христианского государства.
XIV
Указывают на суровый и нередко жестокий характер государства, очевидно противоречащий его определению как организованной жалости. При этом не различают суровости необходимой и целесообразной от бесполезной и произвольной жестокости. Между тем первая не п ротиворечит жалости, а вторая, как злоупотребление, противоречит смыслу самого государства, и, следовательно, ни та, ни другая ничего не говорят против определения государства (разумеется, нормального) как организованной жалости. Мнимое противоречие здес ь основано на такой же поверхностной видимости, как если бы кто-нибудь указывал на бессмысленную жестокость неудачной хирургической операции, а также, кстати, на страдания больного даже при удачной операции, как на очевидное противоречие с понятием хирур гии, в смысле благодетельного искусства, помогающего людям в известных телесных страданиях. Слишком очевидно, что такие представители государственной власти, как, напр., Иван IV, так же мало свидетельствуют против человеколюбивой основы государства, как
дурные хирурги против благотворности самой хирургии. Я сознаю, что образованный читатель имеет право чувствовать себя оскорбленным при напоминании ему такой азбуки, но если он знаком с новейшими течениями мысли в России, то он не сочтет меня виновником э того оскорбления.
Но государство даже и в самых нормальных своих проявлениях неизбежно бывает безжалостно. Жалея мирных людей, которых оно защищает от хищных насильников, оно с этими должно поступать безжалостно. Такая односторонняя жалость не соответствует нравственному
идеалу. Это бесспорно, но опять-таки не говорит ничего против нашего определения государства, ибо, во-первых, жалость, хотя бы односторонняя, есть все-таки жалость, а не что-нибудь другое; а во-вторых, государство, даже нормальное, никак не есть выражени е достигнутого нравственного идеала, а только одна из главных организаций, необходимых для достижения этого идеала. Достигнутое идеальное состояние человечества, или Царство Божие как осуществленное, очевидно, несовместимо с государством, но оно несовмес тимо и с жалостью. Когда все снова будет «добро зело», тогда кого же можно будет жалеть? А пока есть кого жалеть, есть кого и защищать, и нравственная потребность в целесообразно и широко организованной системе такой защиты, т.е. нравственное значение го сударства, остается в силе. А безжалостность государства к тем, от кого или против кого приходится защищать мирное общество, — разве эта безжалостность, фактически несомненная, есть нечто безусловно роковое, и даже фактически — разве она что-нибудь неизм енное? Разве это не исторический факт, что отношение государства к его врагам прогрессирует именно в смысле меньшей жестокости и, следовательно, большей жалости? Прежде их мучительно истребляли целыми семьями и родами (как еще и теперь делается в Китае); потом каждый стал отвечать за самого себя, далее изменился самый характер ответственности: перестали мучить преступников ради одного мучения; наконец, теперь ставят уже и положительную задачу нравственной помощи им. Чем же в последнем основании обусловл ены такие перемены? Когда государство ограничивает или упраздняет смертную казнь, отменяет пытки и телесные наказания, заботится об улучшении тюрем и мест ссылки, не ясно ли, что, жалея и защищая мирных людей, страдающих от преступлений, оно начинает рас пространять свою жалость и на противную сторону — на самих преступников? Следовательно, указание на одностороннюю жалость начинает терять силу уже фактически. И именно лишь благодаря государству организация жалости перестает быть одностороннею, ибо людск ая толпа и теперь еще в своем отношении к общественным врагам руководится в большинстве случаев старыми безжалостными максимами: собаке собачья и смерть; поделом вору и мука; да чтоб и другим неповадно было. Такие максимы теряют практическую силу благода ря именно государству, которое более свободно в этом деле от односторонности в том и другом отношении, так как, властно сдерживая мстительные инстинкты толпы, готовой растерзать преступника, государство вместе с тем никогда не откажется от обязанности че ловеколюбия — противодействовать преступлениям, как хотели бы те странные моралисты, которые на деле жалеют только обидчиков, насильников и хищников при полном равнодушии к их жертвам. Вот уже действительно односторонняя жалость!182
XV
Менее грубое недоразумение по поводу нашего понятия о государстве может явиться со стороны юристов-философов, видящих в государстве воплощение права как начала безусловно самостоятельного и отдельного от нравственности вообще и от мотивов милосердия в ос обенности. Действительное различие между правом и нравственностью было нами прежде указано183: оно не упраздняет связи между ними, а, напротив, обусловлено именно этою связью. Для того чтобы на место этого различия поставить отдельность и противуположнос ть, нужно искать безусловного принципа, определяющего в последнем основании всякое правовое отношение, как такое, где-нибудь вне нравственной области и по возможности дальше от нее.
Таким вненравственным и даже противунравственным началом для права представляется прежде всего сила или мощь: Macht geht vor Recht223. Что правовые отношения в историческом порядке следуют за насильственными, — это так же несомненно, как и то, что в исто рии нашей планеты органическая жизнь явилась после и на основе процессов неорганических, из чего, конечно, не следует, чтобы собственным принципом органических форм, как таких, было неорганическое вещество. Игра естественных сил в человечестве есть лишь
материал правовых отношений, а никак не их принцип, иначе в чем же было бы различие между правом и бесправием? Право есть ограниченная сила, но дело именно в том, что ограничивает силу. Подобным образом и нравственность можно определить как преодолеваемо е зло, из чего не следует, чтобы принципом нравственности было зло.
Мы не подвинемся дальше в определении права, если взятое из физической области понятие силы заменим более человеческим понятием свободы. Что в глубочайшей основе всех правовых отношений лежит индивидуальная свобода, это несомненно, но есть ли она дейст вительно безусловный принцип права? Это невозможно по двум причинам: во-первых, потому, что она в действительности не безусловна, а во-вторых, потому, что она вообще не есть определяющий принцип права. По первому пункту я хочу сказать не то, что человече ская свобода никогда не бывает безусловной, а лишь то, что она не имеет этого характера в той области реальных отношений, в которой и для которой существует право. Предположим, что какой-нибудь во плоти живущий на земле человек действительно обладает без условною свободою, т.е. что он может одним актом своей воли, независимо ни от каких внешних условий и посредствующих необходимых процессов, совершать все, что он хочет. Ясно, что такой человек стоял бы вне области правовых отношений: если бы его безуслов но свободная воля определилась в сторону зла, никакое чужое действие не могло бы ее ограничить, она была бы недоступна для закона и власти, а если бы она определилась в сторону добра, то она сделала бы излишними всякую власть и всякий закон.
Итак, о безусловной свободе, как принадлежащей совсем к другой сфере отношений, нечего и говорить по поводу права: оно имеет дело только со свободою ограниченною и условною, и спрашивается именно, какого рода ограничения или условия имеют характер правов ой. Свобода одного ограничивается свободою другого, однако не всякое такое ограничение выражает собою право. Если свобода одного человека будет ограничена свободою его ближнего, который свободно свернет ему голову или посадит его по своему усмотрению на
цепь, то это вообще не называется правом, и во всяком случае такое ограничение свободы не представляет никаких специфических признаков правового принципа, как такого. Их нужно искать не в факте какого-нибудь ограничения свободы, а в равномерном и всеобще м характере ограничения: если свобода одного ограничивается равным образом, как и свобода другого, или если свободному действию каждого полагается общий для всех предел, тогда только