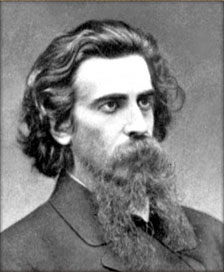в том, что еще должно быть сделано, — есть нравственная философия, изложенная в этой книге. Приводя все ее содержание к одному выражению, мы найдем, что совершенство Добра окончательно определяется как нераздельная организация триединой любви. Чувство благоговения, или благочестия, сначала через боязливое и невольное, а потом чрез свободное сыновнее подчинение высшему началу, познав свой
предмет как бесконечное совершенство, превращается в чистую, всеобъемлющую и безграничную любовь к нему, обусловленную только признанием его абсолютности, — любовь восходящая. Но, сообразуясь со своим всеобъемлющим предметом, эта любовь обнимает в Боге и все другое, и прежде всего тех, кто может наравне с нами участвовать в ней, т.е. существа человеческие; здесь наша физическая, а потом нравственно-политическая жалость к людям становится духовною любовью к ним, или уравнением в любви. Но усвоенная челов еком божественная любовь как всеобъемлющая не может остановиться и здесь; становясь любовью нисходящею, она действует и на материальную природу, вводя и ее в полноту абсолютного добра, как живой престол божественной славы.
Когда это всеобщее оправдание добра, т.е. распространение его на все жизненные отношения, станет на деле, исторически ясным всякому уму, тогда для каждого единичного лица останется только практический вопрос воли: принять для себя такой совершенный нравс твенный смысл жизни или отвергнуть его. Но пока еще конец, хотя и близкий, не наступил, пока правота добра не стала очевидным фактом во всем и для всех, возможно еще теоретическое сомнение, неразрешимое в пределах философии нравственной или практической, хотя нисколько не подрывающее обязательности ее правил для людей доброй воли.
Если нравственный смысл жизни сводится в сущности к всесторонней борьбе и торжеству добра над злом, то возникает вечный вопрос: откуда же само это зло? Если оно из добра, то не есть ли борьба с ним недоразумение, если же оно имеет свое начало помимо добр а, то каким образом добро может быть безусловным, имея вне себя условие для своего осуществления? Если же оно не безусловно, то в чем его коренное преимущество и окончательное ручательство его торжества над злом?
Разумная вера в абсолютное Добро опирается на внутреннем опыте и на том, что из него с логическою необходимостью вытекает. Но внутренний религиозный опыт есть дело личное и с внешней точки зрения условное. А потому, когда основанная на нем разумная вера
переходит в общие теоретические утверждения, от нее требуется теоретическое оправдание.
Вопрос о происхождении зла есть чисто умственный и может быть разрешен только истинною метафизикою, которая в свою очередь предполагает решение другого вопроса: что есть истина, в чем ее достоверность и каким образом она познается?
Самостоятельность нравственной философии в ее собственной области не исключает внутренней связи самой этой области с предметами философии теоретической — учения о познании и метафизики.
Менее всего прилично для верующих в абсолютное Добро бояться философского исследования истины, как будто нравственный смысл мира может что-нибудь потерять от своего окончательного объяснения и как будто соединение с Богом в любви и согласие с волею Божие й в жизни может оставлять нас непричастными Божественному уму. Оправдавши Добро, как такое, в философии нравственной, мы должны оправдать Добро как Истину в теоретической философии.
ПРИЛОЖЕНИЕ. ФОРМАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП НРАВСТВЕННОСТИ (КАНТА) — ИЗЛОЖЕНИЕ И ОЦЕНКА С КРИТИЧЕСКИМИ ЗАМЕЧАНИЯМИ ОБ ЭМПИРИЧЕСКОЙ ЭТИКЕ186
I
Задача философской этики не может состоять только в том, чтобы выразив в краткой формуле общее количество моральных действий, констатировать затем их действительность и, наконец, свести их к одному коренному факту, каким в господствующих системах эмпирич еской этики признается факт симпатии, или сострадания. Что существуют справедливые и человеколюбивые действия и что внутреннее естественное основание их заключается в сострадании, или симпатии, — для убеждения в этом достаточно простого житейского опыта
и обыкновенного здравого смысла, следовательно, философское исследование нравственности не может иметь только эту задачу. Оно требует не констатирования этих общеизвестных и несомненных фактов, а их объяснения.
Фактически нам даны два рода человеческой деятельности. Один из них, именно тот, в котором имеется в виду благо других, мы признаем нравственно добрым, долженствующим быть, то есть нормальным; другой, именно тот, в котором имеется в виду исключительное с вое благо, мы признаем, напротив, нравственно дурным, недолжным, или ненормальным187. Вот настоящее Datum этики, ?ti, — то, что предстоит объяснить; Quaesitum же ее, то есть требуемое объяснение этого данного230, этого факта, должно, очевидно, состоять в том, чтобы показать разумное, внутренно-обязательное основание такого фактического различения, то есть показать, почему первого рода деятельность есть долженствующая быть, или нормальная, а второго — нет. Вот настоящее dioti — почему этики.
Само эмпирическое основание этики, ближайший источник моральной деятельности — сострадание есть опять только факт человеческой природы. Такой же и еще более могущественный факт есть эгоизм — источник деятельности антиморальной. Если, таким образом, та и
другая деятельность одинаково основываются на коренных фактах человеческой природы, то здесь еще не видно, почему одна из них есть нормальная, а другая ненормальная. Факт сам по себе, или как такой, не может быть ни лучше, ни хуже другого.
Так как эгоизм, или стремление к исключительному самоутверждению, есть такое же непосредственное свойство нашей психической природы, как и противоположное чувство симпатии или альтруизма, то с точки зрения человеческой природы (эмпирически данной) эгоизм или альтруизм, как два одинаково реальные свойства этой природы, совершенно равноправны, и, следовательно, та мораль, которая не знает ничего выше наличной человеческой природы, не может дать рационального оправдания тому преимуществу, которое на самом
деле дается одному свойству и вытекающей из него деятельности перед другим.
Но, говорят, и не нужно никакого рационального оправдания, никакой теоретической обосновки для нравственного начала. Достаточно непосредственного нравственного чувства или интуитивного различения между добром и злом, присущего человеку, другими словами,
достаточно морали как инстинкта, нет надобности в морали как разумном убеждении. Не говоря уже о том, что подобное утверждение, очевидно, не есть ответ на основной теоретический вопрос этики, а простое отрицание самого этого вопроса, помимо этого ссылка
на инстинкт в данном случае лишена даже практического смысла. Ибо известно, что для человека общие инстинкты совершенно не имеют того безусловного, определяющего всю жизнь значения, какое они, бесспорно, имеют для других животных, находящихся под неогран иченною властью этих инстинктов, не допускающею никакого уклонения. У некоторых из этих животных мы находим особенно сильное развитие именно социального или альтруистического инстинкта, и в этом отношении человек далеко уступает, например, пчелам и мурав ьям. Вообще, если иметь в виду только непосредственную, или инстинктивную, нравственность, то должно признать, что большая часть низших животных гораздо нравственнее человека. Такая пословица, как «ворон ворону глаз не выклюет», не имеет никакой аналогии в человечестве. Даже широкая общественность человека не есть прямое следствие социального инстинкта в нравственном альтруистическом смысле; напротив, большею частию эта внешняя общественность по психическому своему источнику имеет скорее антиморальный и антисоциальный характер, будучи основана на общей вражде и борьбе, на насильственном и незаконном порабощении и эксплуатации одних другими; там же, где общественность действительно представляет нравственный характер, это имеет другие, более высокие осно вания, нежели природный инстинкт.
Во всяком случае нравственность, основанная на непосредственном чувстве, на инстинкте, может иметь место только у тех животных, у которых брюшная нервная система (составляющая ближайшую материальную подкладку непосредственной, или инстинктивной, душевной жизни) решительно преобладает над головною нервною системой (составляющею материальную подкладку сознания и рефлексии); но так как у человека (особенно в мужском поле), к несчастию или счастию, мы видим обратное явление, а именно решительное преобладани е головных нервных центров над брюшными, вследствие чего элемент сознания и разумной рефлексии необходимо входит и в нравственные его определения, то тем самым исключительно инстинктивная нравственность оказывается для него непригодною.
Эта интуитивная или инстинктивная мораль сама отказывается от всякого умственного значения, так как в самом принципе своем отрицает главное умственное требование этики — дать разумное объяснение или оправдание основному нравственному факту, а признает то лько этот факт в его непосредственном, эмпирическом существовании. Но, с другой стороны, как было сейчас показано, эта мораль не может иметь и практического, реального значения вследствие слабости у человека нравственных инстинктов (соответственно сравни тельно малому развитию у него брюшных нервных центров и брюшной части вообще). Но если, таким образом, эта интуитивная мораль не может иметь ни умственного интереса, ни практической силы, то, очевидно, она вообще не может иметь самостоятельного значения, а должна быть принята только как указание той инстинктивной, или непосредственной, стороны, которая существует во всякой нравственной деятельности, хотя и не имеет у человека определяющей силы по указанным причинам.
Итак, оставляя эту непосредственную, или инстинктивную, мораль ad usum bestiarum231, которым она принадлежит по праву, мы должны поискать для человеческой нравственности разумного основания. С этим согласен и главный новейший представитель разбираемого у чения Шопенгауэр, который обращается для подкрепления своего эмпирического начала к некоторой умозрительной идее.
То, что есть само по себе, Ding an sich, или метафизическая сущность, нераздельно, едино и тождественно во всем и во всех, множественность же, раздельность и отчуждение существ и вещей, определяемые principio individuationis232, то есть началом обособлен ия, существуют только в явлении или представлении по закону причинности, реализованному в материи, в условиях пространства и времени. Таким образом, симпатия и вытекающая из нее нравственная деятельность, в которой одно существо отождествляется или внутр енно соединяется с другим, тем самым утверждает метафизическое единство сущего, тогда как, напротив, эгоизм и вытекающая из него деятельность, в которой одно существо относится к другому как к совершенно от него отдельному и чужому, соответствует лишь фи зическому закону явления. Но что же из этого следует? В том, что факт симпатии выражает субстанциальное тождество существ, а противоположный факт эгоизма выражает их феноменальную множественность и раздельность, еще не заключается объективного преимущест ва одного пред другим; ибо эта феноменальная множественность и раздельность существ совершенно так же необходима, как и их субстанциальное единство. Логически ясно, что все существа необходимо тождественны в субстанции и столь же необходимо раздельны в я влении, это только две стороны одного и того же бытия, не имеющие, как такие, никакого объективного преимущества одна пред другою. Если б эти две стороны исключали друг друга, тогда, конечно, только одна из них могла бы быть истинною, а другая необходимо была бы ложною, но тем самым эта последняя была бы и невозможна. Так было бы в том случае, если бы дело шло о применении двух противоположных предикатов, каковы единство и множественность, к одному и тому же субъекту в одном и том же отношении; тогда по логическому закону тождества происходила бы дилемма, т.е.