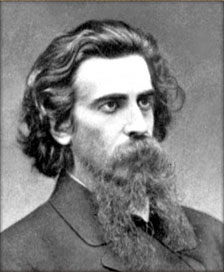круг его истинного самосознания.
Следует провести далее и тем самым смирить горделивую аналогию, которую Кант проводил между Коперником и собою: он, Кант, как некий Коперник философии, показал, что земля эмпирической реальности, как зависимая планета, вращается около идеального солнца — познающего ума. Однако астрономия не остановилась на Копернике, и теперь мы знаем, что центральность солнца есть лишь относительная и что наше светило имеет свой настоящий центр где-то в бесконечном пространстве. Так же и кантовское солнце — познающий субъект — должно быть лишено не подобающего ему значения. Наше я, хотя бы трансцендентально раздвинутое, не может быть средоточием и положительною исходною точкой истинного познания, причем философия имеет перед астрономией то преимущество, что центр истины, находящийся не в «дурной», а в хорошей бесконечности, может быть всегда и везде достигнут — изнутри.
Кто думает о самой истине, тот, конечно, не думает тут о своем я — не в том смысле, чтобы он терял самосознание, а в том, напротив, что он приобретает для своего пустого я новое и, притом самое лучшее — безусловное содержание, хотя сперва лишь в замысле, в предварении. Уже в акте решения познавать саму истину мыслящее я становится формою истины — формою как бы в зародыше. Но уже и в зародыше своей познаваемости сама безусловная истина обладает своим отличительным качеством, она ни в каком случае не может представлять собою чего-нибудь частичного, ограниченного и обособленного. Зародыш самой истины есть зародыш ее всецельности, и внутренний рост этого зародыша может быть только развитием истинной всецельности.
Развитие это не должно представляться как процесс безличный. Без сомнения, философия есть дело философа, она, собственно, есть философствование; но если бы данный эмпирический субъект и в философствовании своем не поднимался над своим житейским уровнем, если бы здесь проявлялись только мысли этого обывателя, Карпа Семеновича, о разных предметах, обычно относимых к философии, то, кажется, ясно, что такие измышления отдельного субъекта, как такого, не могли бы иметь общего значения и интереса. Ясно, что истинная философия начинается тогда, когда эмпирический субъект поднимается сверхличным вдохновением в область самой истины. Но если и нельзя заранее определить, что есть истина, то должно сказать во всяком случае, в чем ее нет, а именно: ее нет в области отдельного, обособленного я, которое из себя, как центра, описывает более или менее длинным, но всегда ограниченным радиусом круг личного существования. Если бы истина была здесь, то ее незачем было бы искать и самая мысль о философии как познавании безусловной истины не могла бы возникнуть. А раз такая мысль возникла и в самом деле овладела мыслящим, то он уже тем самым внутренне разорвал оковы своей мнимой отдельности, стал субъектом сверхличным, и понятно, что эти разорванные оковы, а также и все то, чем школьный догматизм старался и старается их опять спаять,— все эти псевдофилософские понятия мыслящих субстанций, монад, реальных единиц, сознания и т.д. — все это теряет существенное значение, сознается как uberwundener Standpunkt [«преодоленная точка зрения» (нем.)]. Ясно, что эта Ueberwindung есть необходимое условие дальнейшего философствования.
Не то, чтобы границы эмпирического обособления перестали существовать для философской мысли или потеряли всякий интерес для нее, но их продолжающееся существование и остающийся интерес теперь совсем другие, ибо центр бытия переместился. Употребляя стародавнюю метафору, я назвал границы эмпирического существования оковами. Так представьте себе отношение освобожденного узника к его оковам. Они продолжают существовать, но как нечто чуждое; можно допустить, что он — хотя не сейчас, по освобождении, а потом — возымеет к ним интерес, но во всяком случае второстепенный: если он поэт или оратор, он может вспомнить о своих оковах для поэтического или риторического обращения к ним; если он живописец, он может ввести их в сюжет какой-нибудь картины; если он врач, он может употребить их материал — медь или железо — для целей металлотерапии, — но заковывать себя в них он уж, наверно, не будет.
V
Решительный замысел познавать саму истину — этот настоящий философский пафос хотя появляется на почве данной разумности, но он перерастает ее как общую форму неопределенных возможностей, определившись как живой зародыш философского делания. Об этом делании (или о методе философии в самом широком смысле) господствует ныне два противоположных представления, враждебно или презрительно относящихся друг к другу. Философское делание представляется или как медленная собирательная работа многих, по частям и частичкам подбирающих материал для заложения фундамента и возведения отдельных стен будущего здания без верного ручательства и ясной надежды что оно будет когда-нибудь докончено; или философия представляется как прямое, личное творчество отдельного мыслителя, выражающее его субъективность. Исходя из верных положений, оба взгляда по нелогичности их сторонников приходят к заключениям ложным и нелепым.
Конечно, философия есть собирательное дело многих, и требование начинать сначала ставится, конечно, не в смысле историческом. Философия создается многими; однако чтобы работа этих многих была работою над одним и тем же, и притом именно над философией, или познанием истины, как такой, очевидно, требуется предварительная общая идея истины, определяющая собою и план собирательной работы. А то если один под именем философии отдаст свои силы психометрическому исчислению различных скоростей чувственного восприятия, а другой — стилометрическому исчислению слов, словечек и конструкций фразы в Платоновых диалогах, то не видно, каким способом можно доказать, что они работают над одною и тою же задачей, ивритом задачей философской. Правда, эти столь различные исчислительные работы хотя не объединяются в общей задаче, Однако сближаются в общем свойстве интереса, именно интереса к точности исчислений; но я хотел бы, чтобы кто-нибудь ясно и убедительно опроверг мое решительное утверждение, что этот общий психометрии и стилометрии интерес более сроден статистике, нежели философии.
Сравнение с воздвигаемым зданием только подчеркивает требование объединяющего начала. Здание строится по частям многими рабочими и мастерами, но по плану одного архитектора, по распоряжениям одного предпринимателя и под определенным надзором за общим ходом работы. А без этого если бы рабочие даже не знали о том, что именно строится: храм ли, дворец ли, манеж для конницы или помещение для сорока тысяч свиней, то можно вообразить, что бы вышло из такой «собирательной» тектоники. Для отдельного философского учения, например гегельянства, есть один «учитель», — он же и архитектор, и предприниматель, и главный рабочий над своим умственным сооружением. Но такие законченные, «абсолютные» системы отжили свой век, и требуемая «собирательная» или, точнее, по частям собираемая философия исключает самое понятие одного архитектора, как и одного предпринимателя. Это, положим, было бы не беда, лишь бы существовал один общий для всех внутренне-обязательный план. У настоящих философов мы никакого плана построения философии из разных психометрических и иных кусочков, конечно, не найдем; если же обратимся к профессорам психометрии и прочих ремесленных производств, то они хотя охотно представят нам и порознь и сообща всякие планы собирательных и подбирательных работ, но положительное отношение этих планов к философии опять-таки останется проблематичным, и, чтобы допустить его, предварительно нужно будет выкинуть из философии все то, что разумели под этим словом Платон и Аристотель, Спиноза и Гегель и все те лица, которыми до сих пор занимаются все сочинения по истории философии. А при явной химеричности такого условия представление философского делания как механической, собирательной работы лишено не только значения действительности, но и значения серьезного замысла и становится одним из тех субъективных вымыслов и помыслов, из которых состоит философия согласно второму из разбираемых теперь представлений.
Это второе представление о философском делании, составлявшее полусознательную подкладку в писаниях Шопенгауэра, окончательно проявилось у Ницше и возводится в принцип его последователями (см., например, книгу Л. Шестова «Добро в учении гр Толстого и Ф Ницше». СПб., 1900). По их взгляду, философия есть личное творчество единичного мыслителя и выражает только содержание его субъективности. С этой точки зрения нельзя ничего сказать и против первого взгляда на философию, принадлежащего профессорам психометрии. Не имея, по не зависящим от них причинам, никакой возможности стать основателями действительного собирательного, философского делания, они сохраняют полное право на всякие умствования по этому предмету, выражающие их субъективность. Субъективности бывают, конечно, разные, и тот интерес всех, сочувствие многих и поклонение некоторых, что достались на долю гениальной психопатии, выраженной в увлекательной лирической прозе Ницше, никогда не будут уделом негениальной психометрии профессоров X, Y, Z. Но их уравнивает одинаково всем присущий признак субъективности вообще.
Какое же его отношение к философии?
VI
Без всякого сомнения, философия есть вообще дело некоторого субъективного творчества. Это ставит ее в ряд других проявлений творчества, но чем же она от них отличается, в чем существенное различие между нею и, например, поэзиею? Если бы различие было только в форме, то право философии на существование было бы сомнительно, так как всякий должен признать, что со стороны формы произведения подлинно поэтические несравненно превосходнее даже таких первостепенных философских творений, как «Этика» Спинозы, «Критика» Канта и «Логика» Гегеля. Если же существенное отличие состоит в том, что поэзия обращается к чувству и воображению, а философия к уму, так что ее форма, менее эстетичная, имеет преимущество доказательной достоверности, то ведь и это преимущество принадлежит, собственно, не философии, а положительным и точным наукам: ибо где та философия, которая действительно удовлетворила ум и доказала свои положения?
Некоторые философы были вместе с тем и настоящими поэтами (Платон, Джордано Бруно), другие — настоящими учеными (Декарт, Лейбниц, Кант). Таким фактическим совмещениям можно радоваться, но, конечно, они не дают ответа на вопрос о raison d’etre философии, как такой. Если философ вообще, в этом своем качестве, не может соперничать ни с поэтом по красоте выражения идей, ни с ученым по их внешней убедительности, то ясно, что достаточное основание для философского делания может быть найдено не с этих сторон. И поэзия, и точная наука — обе (каждая по-своему) отличаются своею формальною конечностью, то есть законченностью своих произведений. Их много, как теорем Эвклида или драм Кальдерона, но каждое есть замкнутый круг, окончательно удовлетворяющий в своих пределах эстетический или научный интерес. Геометрической теореме достаточно ее доказанности, и поэтическому произведению достаточно его красоты. Достоинство философии, напротив, в ее бесконечности — не в том, что достигнуто, а в замысле и решении познать саму истину, или то, что есть безусловно.
Этот замысел, хотя как факт, или эмпирически, принадлежит субъекту, но по существу, как утверждение о самой истине, он выходит из пределов всякой субъективности, определяя философствующего субъекта тем, что больше его. В том или другом выражении замысел познать безусловную истину стоит во главе