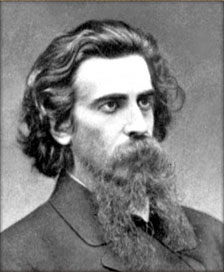настроение Н. С. после начала нашего знакомства. Впечатления жизни показали ему, как трудна «покорность судьбе».
После этого письма я потеряла всякую надежду видеть у себя Н. С. и очень обрадовалась, когда совершенно неожиданно он приехал ко мне. Тоска и скука, которыми он страдал, не уменьшили его сердечной доброты, с прежним сочувствием отнесся он к моей тоске от моих собственных жизненных впечатлений, а когда разговор коснулся статьи, так меня заинтересовавшей, что я сделала из нее выдержки для русских читателей, Н. С. этой статьей заинтересовался и просил дать ему прочесть мою рукопись. Статья эта называлась: «Настоящее значение Гамлета» The real significance of Hamlet, автора не известного, и была помещена в журнале Temple Bar в одном из восьмидесятых годов, каком именно не помню
Через несколько дней он мне написал:
«19 ноября 88 Спб
Достоуважаемая Елизавета Николаевна!
Я прочитал Вашу рукопись и имел случай говорить о ней. Ее напечатают в фельетоне, если Вы согласны на то, чтобы сделать сокращения, освободив ее от длиннот и английских цитат, делающих ее тяжелою для внимания газетного читателя, и я думаю, что газете невозможно поступить иначе. В сокращенном виде она может идти как компиляция, сделанная редакцией газеты. Впрочем, как угодно. Я ожидаю Вашего ответа.
Преданный Вам Н. Лесков».
Это известие было для меня совершенно неожиданно. Н. С. ничего мне не сказал, когда брал от меня рукопись, о своем намерении хлопотать, чтобы ее напечатать, притом эта статья годилась скорее для журнала, чем для газеты. Но я находилась тогда в таких обстоятельствах, что не могла отвечать иначе, как согласием, и написала Н. С., что спорить и прекословить не стану, а, напротив, буду очень благодарна ему и издателю газеты. Н. С. сократил статью по требованию газеты, но время проходило, а статья не появлялась. Н. С. был рассержен, а спрашивать не захотел и предлагал отдать мне мою рукопись в ее цельном виде, но думал, что в журнале не возьмут такой статьи, так как для нее в России не найдется и пяти аматеров, а в газете она, может быть, еще и появится когда-нибудь, хотя насчет аматеров я была другого мнения, но не захотела спорить с Н. С., и статья, отданная в газету, так и осталась ненапечатанной.
В это время настроение Н. С. было очень мрачное. Приведу несколько выписок из его письма от 14 января 1889 — все письмо для печати неудобно.
«Живем в такой век, что никаких надежд ни на что лучшее нет. Блаженны умершие. Самый искренний совет, какой можно дать живым, „ожидающим счастия“, это совет хохла, который видел, как выбивался пан, попавший в прорубь и старавшийся выскочить. Хохол ему закричал: „Не тратьте, пан, сил, спущайтесь на дно!“ Это самое и нам пришло, но один купец мне сказал: „Впрочем, при капитале существовать можно!“ Одно другого гаже, а все правда. А я Вам, бывало, говорю и пишу: надо приучать себя обходиться без счастия, жизнь дана совсем не для счастия, так ведь Вы назвали меня мистиком, а на самом-то деле я прав, хотя и имею всегдашнее стремление подчинять себя учению, которое вводил Галилейский пророк, распятый на кресте.
Жизнь не то, что она есть, а как она является в нашем представлении. Ваше представление ужасно и мучительно, а жизнь не для счастия, не для счастия, не для счастия».
Я не менее Н. С. благоговею перед учением «Галилейского пророка», но никогда не соглашалась, что оно должно исключать счастие земное и что жизнь дана нам не для счастия. Зачем же человек чувствует потребность счастия, которое каждый понимает по-своему. Это чувство врожденное. Мне всегда казалось, что счастие и несчастие зависят от последствий благоприятных и неблагоприятных обстоятельств, и если несчастия раздражают нас, то почему это может выражать «непокорность судьбе». Это может быть только неприятно для тех, кому мы высказываем свое горе, но горе бывает такое тяжкое и мучительное, что помимо нашей воли мы чувствуем потребность высказать его. Н. С. осуждал меня не за это, он только убеждал меня «покоряться», я же по своим убеждениям не находила, чтобы моя покорность была нужна кому-нибудь. Он думал, что это меня утешит, а я думала, что в этом могут находить утешение только те, кто чувствует не глубоко.
Только в этом и было разногласие между нами. В те годы, когда я его знала, Н. С., несмотря на свое несколько мистическое настроение, всегда был в своих суждениях прогрессистом, как принято называть людей, не желающих возвращения к старому порядку, и нам не о чем было спорить.
Когда потом, давно не видевшись с Н. С., я спросила его, не может ли он навестить меня, он ответил:
«7/IX.92.
Здоровье мое таково, что ничего не могу пообещать. Я очень желал бы приехать к Вам, но редко бываю в состоянии выехать. У себя даже до 2-х ч. дня я бодрее и сильнее. В 2 ч. я иду тихо гулять и потом не должен себя нимало неволить к разговору, т. к. это возвышает нервность. Если можете пожаловать ко мне до 2-х ч., то напишите, когда вздумаете, — я буду Вас ожидать. Сам обещаться не смею.
Всегда Вам преданный Н. Лесков».
Я написала, что приеду, но боюсь, не обеспокою ли его.
Вот его последнее письмо:
«9. IX.92 г.
Я очень болен и только порою мне бывает легче. Болезнь у меня нервная и сердечная, которой исцелить нельзя и припадки ее в молчании сносить невозможно. Все способное волновать вызывает страшные мучения. Утром до 2 часов я бываю сильнее и могу участвовать в суждениях. Позже все впечатления влияют на мои нервы с неимоверной силою и не раз случалось, что припадки случались при посторонних. Видеться с Вами был бы рад.
Н. Лесков».
Я была у него, он чувствовал себя лучше в тот день. Мы беседовали долго, больше об его здоровье и моих делах, которые очень интересовали Н. С. Из нескольких выражений, вырвавшихся у него, я могла заключить, что в его настроении произошла некоторая перемена. Мне показалось, что покорность судьбе не очень его утешала. Но мы не вдавались в отвлеченные предметы, разговор касался жизненных фактов.
С тех пор я не видала Н. С., и его и мое здоровье не позволяло выездов, а к переписке особенной надобности не представлялось, и я не хотела его беспокоить.
В 1894 г. в день моих именин я получила от Н. С. его визитную карточку. Он никогда не поздравлял меня в этот день ни лично, ни письменно, ни карточкой, и я поняла, что он хотел этим показать, что он меня помнит.
Он оставил во мне впечатление писателя с талантом очень своеобразным, собеседника остроумного и интересного, человека добросердечного, умевшего понимать чужое горе.
ВАРНЕКЕ Б. В.[5] ДВЕ ВСТРЕЧИ С Н. С. ЛЕСКОВЫМ
А станешь стариться, нарви
Цветов, растущих на могилах,
И ими сердце оживи.
Некрасов
Я видел Лескова незадолго до его смерти, в 1894 году. Тогда я поддерживал скудость своего студенческого житья мелкой театральной хроникой в «Петербургских Ведомостях» В. Г. Авсеенки.[6] Однажды меня потребовали в кабинет к Авсеенке; он держал в руках запечатанный конверт и предложил мне сейчас же отнести этот конверт к Лескову, подождать там, пока он выправит корректуру, и затем вернуть его в редакцию.
Щедрый издатель это путешествие обещал посчитать мне в 100 строк, а за строчку мне полагалось полторы копейки; стало быть, мне предстоял доход в полтора рубля, что уже само по себе представляло немалый соблазн.
— Я мог бы, конечно, и даром все это устроить, послать ему корректуру с рассыльным, — пояснял Авсеенко. — Но Лесков совсем рехнулся со своей мнительностью: статья его, как он выражается, «с приключками», и он боится, как бы не раскрылось его авторство. Поэтому он требует, чтобы корректуры его никак не давали рассыльным, которые, мол, готовы за двугривенный выдать его корректуру самому заклятому его врагу — Тертию Филиппову «со аггелы».[7]
Вот поэтому ради его капризов приходится идти на расход и посылать кого-нибудь из сотрудников.
Когда я с охотой согласился исполнить это поручение, Авсеенко дал мне несколько наставлений:
— Прежде всего, если у вас есть какое-нибудь знакомство среди синодалов, отрицайте это самым решительным образом. Иначе все пропало, и Лесков подымет целую историю, что его предали самым лютым его врагам. Я и выбрал-то вас больше всего за фамилию: таких фамилий среди церковных не бывает. А затем, пока он будет править корректуру, сидите смирно и, главное, ничего не разглядывайте у него и ни про что не спрашивайте: он этого терпеть не может. И если вы не угодите ему, свой гнев он обрушит на газету и перестанет давать статьи, а они забористые…
Через двадцать минут я входил в кабинет Лескова. Подозрительно осмотрев меня несколько раз с головы до ног, Лесков подверг самому тщательному осмотру принесенный мною пакет, запечатанный зеленым сургучом с каким-то замысловатым оттиском. Перевернув его раз десять во все стороны, Лесков вынул из одного из бесчисленных ящичков своего бюро отрывок бумажки с такой же печатью и стал их внимательнейшим образом сличать. И только после этого всестороннего исследования Лесков заметил:
— Да, печать подлинная, Авсеенки!
Затем он аккуратно вскрыл ножницами конверт, разорвал его на мельчайшие части и бросил их в печь, пододвинул на край большого письменного стола старинный парный подсвечник и предложил мне там поместиться, а сам у другого такого же подсвечника стал править корректуру.
Статья была невелика и состояла из 5–6 гранок, но Лесков на ее правку потратил часа два с половиной. Читал он одну строчку, заложив все остальное толстой цветной бумагой. Часто справлялся в старой записной книжечке, проложенной небольшими бумажками разного объема, и вычитанное в ней записывал на особые листочки, которые приклеивал в виде дополнений на края гранок.
Пристальная работа его, видимо, утомляла, и раза четыре он прерывал ее, приваливаясь ненадолго на диван. Наконец, когда работа была кончена и гранки пестрели целым роем пометок и вставок, Лесков стал аккуратно клеить конверт для них из толстой желтой бумаги и запечатал его огромной восковой печатью, изображавшей какую-то иконку.
— Ну вот и хвала всевышнему! Управились, теперь и побаловаться можно, — добродушно промолвил Лесков и, вынув из шкафика над столом блюдечко с мармеладом и финиками, радушно предложил отведать это «афонское утешение», как он выразился, а сам стал есть тоже финики, но только из совсем другой плетенки.
— Что это вы читали? — спросил он, показывая рукой на ту книжку, которую я захватил из дому и читал во время его работы. Я молча протянул ему маленький томик.
— Ах, Готтфрида