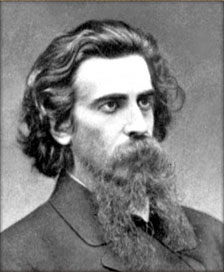не могла перенести простого, голого принципа правды; что общественная жизнь оказалась несовместимою с личною совестью; что раскрылась бездна чистого, беспримесного зла и поглотила праведника; что для правды смерть оказалась единственным уделом, а жизнь и действительность отошли к злу и лжи.
Как же жить в этом царстве зла, как жить там, где праведник должен умереть? Посмотрите, насколько это»быть или не быть», которое Платону пришлось сказать над трупом законно и явно отравленного Сократа, глубже и значительнее гамлетовского»быть или не быть», вызванного беззаконным и тайным, в сущности случайным отравлением его отца?
Конечно, главную силу трагизма этого положения могла сознательно испытать лишь такая высокая и богатая индивидуальность, как Платон; но самый источник трагизма — не в индивидуальности, не в субъекте, а в этом глубоком, роковом и объективном столкновении глубочайшего зла с воплощением правды. И столкновение это не обусловлено историческою стадией общественного развития, как в Орестии, — оно безусловно и универсально, как самый принцип высшей правды, провозглашенной Сократом:»Слушаться я должен бога больше, чем вас», и как ответ зла:»Ты должен умереть, ибо жизнь общества несовместима с правдою божьею и человеческою».
Когда Гамлет говорит свое»быть или не быть», он разумеет — быть или не быть мне, Гамлету? — вопрос личный, и весь монолог наполнен личным элементом: ударами судьбы, сорными травами житейского сада, сновидениями за гробом. Для Платона вопрос был в том: быть или не быть правде на земле — вопрос универсальный, хотя живо ощутить его значение могла, конечно, лишь великая личность — вот истинное соответствие, настоящий синтез всеобщего и индивидуального, субъективного и объективного начал в драме, и этот синтез, никаким поэтом не придуманный, произошел в действительной истории.
Пояснив или подчеркнув с помощью нового сопоставления общеизвестную завязку Платоновой жизненной драмы, я должен теперь перейти к се дальнейшему развитию и к той окончательной трагической катастрофе, на которую, если не ошибаюсь, до сих пор не обращали достаточного внимания.
XV
И Платон и Гамлет из страшного положения в начале их жизни оба вынесли, собственно, лишь ряд разговоров. Разговоры Гамлета глубокомысленны и остроумны. Разговоры Платона, с возражениями и дополнениями Аристотеля и стоиков и с заключениями новоплатоников, создали целый умственный мир, называемый греческою философией, и вошли»в историческое развитие христианства как его главная основа. И все‑таки приходится сказать, что жизненная трагедия Платона имела не только страшное начало, но и плачевный конец, как то и следует для настоящей трагедии. Из своего жизненного испытания он вышел хотя не без славы, но без победы. Подобно шекспировскому Гамлету — в отличие от сумароковского — он не мог жениться на своей»Офелии»: она утонула. В конце концов Платон, как Гамлет, оказался неудачником, хотя, разумеется, неудачи великого человека дают миру гораздо больше, чем множество самых блестящих удач людей обыкновенных.
Можно себе представить, какое действие смертный приговор Сократу произвел на такого его ученика, как Платон, который успел крепко привязаться к чарующей личности учителя и проникнуться высоким духом его речей, но уже по самому возрасту своему (28 лет) был неспособен легко мириться с торжеством зла — и еще каким торжеством! Сладкая привычка к существованию, заставляющая людей ради сохранения жизни забывать и терять ее смысл и истинную причину — то, для чего стоит жить, — propter vitam vitai perdere causas, — такая привычка не могла еще сложиться у Платона. Сила нравственного потрясения выразилась в серьезной болезни, которая помешала ему участвовать в предсмертной беседе учителя с учениками.[4]Затем ему пришлось переселиться в Мэгару и там на печальном досуге решать свое»быть или не быть?».
XVI
Есть повод догадываться, что и Платону являлась мысль о самоубийстве. Во всяком случае основания, по которым он не мог на ней остановиться, совершенно ясны. Сущность Сократова учения, восторженно воспринятого его учеником, состояла, как мы знаем, в том, что независимо ни от каких фактов и положений есть безусловный, по существу добрый, смысл бытия; а признанием этого прямо исключается такой акт отчаяния, как самоубийство, из‑за трагической смерти Сократа отказаться от той самой истины, которой Сократ посвятил свою жизнь, — это было бы и логическим противоречием, и психологическою невозможностью. Логически неизбежна была дилемма,: или Сократ действительно был учитель истины, и, значит, должно было его слушаться и не убивать себя вопреки его учению; или он не был провозвестником истины, и тогда его смерть, как бы она ни была печальна, теряла свое особое принципиальное и роковое значение, являлась лишь смертью хорошего и замечательного, но заблудившегося, неправого человека, и здесь не было причины для безвыходного отчаяния; в первом случае самоубийство было бы делом непозволительным, во втором — это был бы поступок без достаточного основания.
А со стороны психологической и факт смерти учителя, и высота нравственного достоинства, обнаруженная им в обстоятельствах этой смерти, должны были до чрезвычайной степени усилить восторженную и благоговейную любовь Платона к умершему, а это не допускало его ни усомниться в истине учения, ни изменить ей малодушным отчаянием. Если не навсегда, то во всяком случае на первое время влияние Сократа умершего должно было еще сильнее, чем влияние живого, действовать на сознательные решения его ученика.
Еще другая психологическая причина не допустила бы Платона до самоубийства. Поясню ее сравнением. Всякий признает психологически невозможным, чтобы человек, преданный, например, материальным интересам, решился наложить на себя руки вследствие смерти близкого и искренно любимого им лица, когда это лицо, умирая, оставило ему богатое наследство. Ясно, что стремление воспользоваться этим наследством пересилит у такого человека его скорбь о сердечной потере. Платон был человек иного рода, но отношение остается то же. Платон был предан высшим интересам духа, а смерть Сократа кроме великого горя оставляла ему великое духовное наследие, еще умноженное самою этою смертью. Полнота юных умственных сил, напитанных обильным идейным содержанием Сократовой жизни и смерти и поднятых на новую высоту всем напряжением благоговейной и скорбной любви к умершему, требовала положительного творческого выхода и, занимая всю душу Платона, не оставляла в ней тех пустых мест, где гнездятся отчаянные решения. И сам роковой вопрос о жизни и смерти правды своим сверхличным, универсальным значением выводил мысль из тупой и тесной личной тоски, чреватой самоубийством, на простор и свет для плодотворного действия.
XVII
Смерть Сократа, когда ее переболел Платон, породила новый взгляд на мир — платонический идеализм. Первое основание,»большая посылка»этого взгляда содержалась в учении Сократа; меньшая посылка была дана его смертью; гений Платона вывел заключение, которое осталось скрытым для других учеников Сократа.
Тот мир, в котором праведник должен умереть за правду, не есть настоящий, подлинный мир. Существует другой мир, где правда живет. Вот действительное жизненное основание для Платонова убеждения в истинно сущем идеальном космосе, отличном и противоположном призрачному миру чувственных явлений. Свой идеализм — и это вообще мало замечалось — Платон должен был вынести не из тех отвлеченных рассуждений, которыми он его потом пояснял и доказывал, а из глубокого душевного опыта, которым началась его жизнь.
Сократ учил о безусловном, или самосущем, добре, но он брал его главным образом не как противоположность, а как предположение нашей действительности. Для Платона та действительность, в которой смерть Сократа была не случайным фактом, а выражением закона, явлением жизненной нормы, — такая действительность представлялась прежде всего с отрицательной своей стороны, как противоречие добру и правде! Ранее противоположности между»сущим по существу»(το οντως ον) и призрачно»бываемым»(γιγνόμενον), кажущимся, или явлением, — ранее этой диалектической и метафизической противоположности почувствовал Платон, под влиянием учения и в особенности смерти Сократа, этическую противоположность между должным и действительным, между истинным нравственным порядком и строем данного общежития.
И Платону, как Гамлету, мир показался как сад, заросший сорными травами; но его пессимизм был произведен не личными бедствиями, а тем, что в этом мире Не оказалось места для правды и праведника.
Для Сократа порядок действительной жизни был условным — хорошим, если он согласовался с добром по существу, дурным, если он ему противоречил. Но в смерти самого Сократа вопрос фактически получил общее решение в отрицательном смысле: обнаружилось на деле, что существующий порядок принципиально противоречит добру, что он — по существу дурной. Значит, нельзя принимать в нем деятельного участия человеку, ищущему не внешнего успеха во что бы то ни стало, не кажущегося наслаждения и не мнимой выгоды, а истинного блага, или добродетели. Из такого взгляда хотя не вытекает, для людей правды и добра, невозможность жизни вообще, но, очевидно, вытекает невозможность жизни практической, деятельной.
Мы видим некоторую историческую диалектику (в Гегелевом смысле), которая выразилась в Платоне невольно и незаметно для него самого. Сократ отказался от теоретического умозрения о вселенной, которыми занимались его предшественники, и свел философию с неба на землю, к людскому обществу, а его духовный наследник, преемник его гения и славы, должен прежде всего отрешиться от жизни и дел общественных, должен предварить в принципе идеал восточного монашества.
Мир весь возле лежит; тело есть гроб и темница для духа; общество есть гроб для мудрости и правды; жизнь истинного философа есть постоянное умирание. Но это умирание житейских интересов дает место не пустое, а лучшей жизни ума, созерцающего то, чтó есть само по себе безусловное. Добро — то, чего Сократ искал как нравственной нормы для практической, общественной жизни, но что для Платона стало теперь предметом пока лишь чисто теоретического интереса, как верховная идея, средоточие иного,»умопостигаемого»мира.
XVIII
Платон должен был по убеждению бежать от мира; с этим связалось бегство по принуждению из родного города.[5]Он поселяется на несколько лет в Мэгаре с другими сократовцами и вдали от всяких дел предается чистой теории, математическим и диалектическим задачам и упражнениям.
По всей вероятности, свое первое заморское путешествие — в Кирэну, Египет, а может быть и далее, в Азию, — Платон предпринял из Мэгары, до возвращения в Афины. Как бы то ни было, и вернувшись на родину (через пять лет после смерти Сократи), он продолжал сначала вести жизнь философа, далекого от дел общественных. С крайне пессимистическим взглядом на общество и на публичную деятельность, который высказывается в диалогах Горгий, Менон, Фэдон, 2–я книга Государства, сообразен и характер некоторых других диалогов, которые самим свойством своих задач свидетельствуют об отрешенном идеализме Платона в эту пору (Кратил — о природе слов; Феэтет — о том, что есть знание; Софист- об отношении между сущим и несущим; Парменид — о едином и многом, или об идеях).
Если этот идеализм, держащийся на почве противоположения между умопостигаемою областью истинно–сущего и обманчивым потоком чувственных явлений как»несущего», куда всецело относится всякая житейская и общественная практика, — если такую