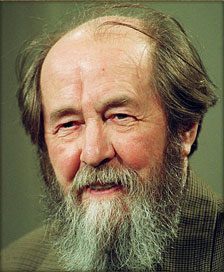особенность войны против своих…
В 4-ю роту пошёл её командир штабс-капитан фон Ферген, весь день просидевший с караулом в клинике у Сампсоньевского моста. Он был для роты новый, всего месяц как с фронта, но рота уже знала и любила его.
Братья Некрасовы пошли бы в 3-ю роту, где больше всего было фронтовых солдат, – но как туда идти, если именно по ним стреляли днём? Пошли во 2-ю роту. Там тоже были кадровые унтер-офицеры, после ранений, кого Некрасовы хорошо знали. С капитанами и маленький Павел Греве, прапорщик, совсем ещё мальчик, недавно из кадетского корпуса.
Пошли, только револьверы оставили в собрании.
Вступили в ротную дверь – не раздалось воя, не произошло нападения, но дневальный громко скомандовал и отдал обычный рапорт, а штабс-капитан Некрасов отдал «вольно», хотя на «смирно», кажется, и не стояли.
И как будто не было во дворе стрельбы – вот, стояли солдаты в русской военной форме, и даже любимого Московского полка, с русским языком, многие бородатые запасники, невооружённые новобранцы, только что от семей, – и ждали разъяснения и успокоения от отцов-офицеров. Во много рядов тесно сплотились кругом. Даже доверчиво.
Всеволод опирался на палку, маленький Греве таял, говорить было Сергею. И он теперь понял, что прав был Яковлев: никакой стрельбы сегодня вообще не было, это наваждение. А стоял их запасной полуобученный батальон в странной полувоенной обстановке.
И Сергей Некрасов, со своего роста хорошо всех видя, возвысил голос и чисто, звонко предложил успокаиваться, укладываться, утро вечера мудреней. (И самому так хотелось этой покойной ночи для раздумья и опоминанья.)
И с мужиков многих того было достаточно: они как бы прощёнными себя почувствовали за то, что поволновались сегодня, кто из казарм не выходя, а кто и побегал по плацу, – и теперь могли разоболокаться на ночь.
Но так просто не кончилось. Солдаты многие и расходились по нарам – а унтеры, напротив, приступили тесней, объясниться. И с ними тоже часть солдат.
Они, мол, унтеры, попали хуже всех, между двух огней. С одной стороны – присяга, им ли не понимать? А с другой – как же в толпу стрелять? Там же и бабы, и мальчишки, и все русские. Господам офицерам никакого зла не желамши, всегда защитят их от толпы. Но вольные – приступают, наседают, требуют разоружить офицеров, а иначе пушки привезут и все казармы им разнесут.
Некрасов встретил глаза Тарамолова, с кем под Тарнавкой опирались плечом, и у обоих Георгии оттуда:
– Ну ты-то, Тарамолов, неужели веришь? Какие пушки, кто разнесёт?
В пушки Тарамолов не верил, улыбнулся, – но какая-то сильная неназываемая причина была у него, как и у всех, – причина, которая кончала их прежний быт полка, ведомого офицерами:
– Ваше высокоблагородие, всех не перевозьмёте, от всех не отстрелитесь. Конечно, им отдать оружие вам не мочно, и мы такого не вносим. И они хотят оружию забрать, чтобы, может, вас перебить, да. Но отдать оружию нам, с кем вы вместе под немецкой проволокой лежали, вам никак не зазорно. Вы нам отдайте, а уж мы вас, своих, защи́тим. Мы вольным скажем, что вот разоружили – и пусть кóтятся. А чего ещё придумать, ваше высокоблагородие?
Убеждённая его речью, уверенно и доброжелательно загудела унтерская кучка, подпёртая и солдатами. Эта доброжелательность уже была чудо – после сегодняшней стрельбы, разделившей их во врагов.
И эта доброжелательность сразила Сергея Некрасова. Чего б никогда он не сделал ни под какой угрозой, чего вообразить не мог в своей офицерской карьере – за несколько небывалых часов перепрокинулось и оказалось движением доверия и дружбы.
Переглянулись с братом Всеволодом. Убеждён был и он. Да ему-то – шашки не отдавать, только палка при нём.
Штабс-капитан Некрасов вытянулся. Прижмурился. Нахмурился.
Отстегнул шашку. Протянул Тарамолову.
И маленький Греве отстегнул – и отдал бережно.
И загудели, загудели мужики с одобрением.
И опять Некрасов почувствовал себя со своими солдатами – заодно, как и был всю службу.
Расходились солдаты спать. И офицерам теперь тоже следовало остаться ночевать здесь.
Но совсем не оказалось места – нары в два этажа и все набиты, ведь роты по полторы тысячи.
В ротной канцелярии? Тесно. На одного место, на писарской кровати.
Но они уже успокоили роту – и можно бы уйти.
Однако – зачем же тогда оружие отдали?
И уже назад не спросишь.
Как обворованные, с острым ощущением ошибки – вышли наружу.
Да, собственно, не их это и рота: Всеволод заведывал школой солдатских детей, а Сергей, как батальонный адъютант, лишь штабными писарями. Так что они и свободны.
Но – куда ж теперь? Стали на плацу.
В собственной адъютантской квартире – стёкла выбиты, гуляет мороз, и разгром.
По тёмному плацу мелькали чужие одиночные фигуры, которым по распорядку и времени не быть бы.
Да ведь одни ворота свалены. И часовых нигде нет.
Вспомнили Некрасовы: в новом офицерском флигеле – пустая квартира штабс-капитана Степанова, командира 3-й роты, уехавшего лечиться на Кавказ.
Пойти к нему.
У швейцара собрания взяли ключ и велели говорить другим офицерам.
142
Генерал Алексеев. Назначение полков на Петроград.
Если бы Государь прошлым летом послушался советов генерала Алексеева, то уже давно всем тылом руководил бы единый министр-диктатор, и не произошло бы ничего похожего нынешним недостачам и уличным безпорядкам. Но все области тыловой жизни и отрасли руководства находились в разных несогласованных руках.
А если уж так, то, вероятно, лучше бы, чтоб этими руками были доверенные руки общества, нежели избранные в потайках Царского Села, – не возникало бы добавочного враждебного напряжения с обществом. Отчего уж и не дать всеми просимое и разумное министерство из общественных лиц, за какие такие таланты Государь предпочитал своих слишком случайных министров? (Дать – добровольно, не так, как предлагали заговорщики, приезжавшие зимой в Севастополь.)
А теперь трубил Родзянко, подглашал расчётливый Брусилов, вот с опозданием в сутки присоединялся к той же просьбе и осмотрительный, двуличный Рузский, – однако время ли принимать столь серьёзное решение в этакой суматохе?
Теперь, по упущенному, надо было весь день ходить из штабного дома в дом Государя, носить сверхважные телеграммы растерявшихся генералов. Теперь вот во главе всех идущих войск назначался Иванов. Уж его ли не знал Алексеев, достаточно послужа под ним и в Киевском округе, и на Юго-Западном фронте: никакой полководец, никакой стратег, панически склонялся сдавать Киев, совсем несовременный генерал, даже никудышный, только представительство – красиво молча гладит бороду и отечески разговаривает с солдатами. К нынешней роли он совсем не годится.
Но и знал Алексеев, что именно в выборе лиц, в личных назначениях Государь и бывал особенно настойчив. И в них приходилось Алексееву уступать. Если ему уж так понравилось… Почему начальник штаба должен был и тут исправлять выбор императора?
Да и действительно так сразу и не придумаешь никого, назначение неожиданное – и масштабное.
А можно восполнить недостатки Иванова тем, что потребовать от фронтов назначать во главе посылаемых полков и бригад – подлинно боевых генералов.
Не хотелось, не хотелось снимать с фронта значительные силы перед самым наступлением. Ведь их потом так быстро не вернёшь. Любил Алексеев иметь все полки на своих местах.
Впрочем, и понимал, конечно, что сегодня – фронтовая обстановка позволяла снять сколько угодно войск.
Ещё ж и познабливало, и подмучивало грудь и голову. Перебарывая, Алексеев сидел за столом, подыскивал войска, где – из резерва, это лучше, где и, нехотя, снимая даже с боевой линии.
С трёх фронтов брать примерно по два пехотных и по два кавалерийских полка. С Северо-Западного оказывалось удобно и быстро послать твёрдую бригаду 1812 года – лейб-Бородинский и Тарутинский полки, стоящие в резерве. Через две ночи и один день, на рассвете 1 марта они могут быть уже в Петрограде. Почти сразу за ними поспевают, тоже с Северо-Западного, Татарский уланский и Уральский казачий полки. Сутками позже добросятся с Западного фронта Севский и Орловский пехотные полки, один гусарский и один Донской казачий. Наконец, если будет неизбежно, – снять с Юго-Западного, из армии Гурко, гвардейские полки, хотя бы даже и сам Преображенский.
Проще было предоставить выбор полков самим Главнокомандующим фронтами, но, по своей въедчивой манере работать за подчинённых и всё самому знать до точки, Алексеев всё выбрал и назначил сам. Не мог он спокойно жить часа, не зная, какой же именно полк убудет.
В девятом часу вечера Алексеев аппаратно переговорил с начальниками штабов Северного и Западного фронтов. Хоть и мало сочувствуя всей затее, он, однако, отдал приказ недвусмысленный: войска отправить с возможной поспешностью, минута грозная, это вопрос нашего дальнейшего будущего. И послать генералов прочных.
Приняв решение, теперь уж нельзя было колебаться. Конечно, Ставка совсем не приспособлена к такой задаче – бороться с внутренними волнениями. Это не лучший исход гражданского кризиса, но тоже вполне возможный. Он обещает несомненный успех: в Петрограде нет войск, сравнимых по качеству с посылаемыми. Что такое восстание нескольких запасных необученных и почти невооружённых батальонов в изолированном углу страны, когда вся вооружённая Действующая армия остаётся верна? И вся Россия остаётся покойной? К тому же на дни дезорганизации Петрограда Ставка, благодаря присутствию в ней Государя, может взять на себя не только военное управление фронтами, но и полное государственное управление страной.
После этого, уже в одиннадцатом часу, Алексеев телеграфировал в Петроград военному министру о назначении генерал-адъютанта Иванова, о высылке с ним войск на Петроград и просьбу сформировать для Иванова штаб.
Эта телеграмма едва только была передана по прямому проводу в дом военного министра на Мойке – как оттуда донесли, что великий князь Михаил Александрович просит генерала Алексеева подойти к прямому проводу.
Брат царя! Неожиданность.
143
Генерал Иванов ошеломлён назначением.
Генерал Николай Иудович Иванов возвысился из самых нижних слоев, происхождение его не было прозрачно известно, так что одни родовитые недоброжелатели утверждали, будто он из беглых каторжников, не то каторжник был его отец, другие – что он из перекрещенных кантонистов, отчего и отчество у него осталось Иудович и фамилия придуманная Иванов. А когда уже достиг он высоких постов и журналы печатали его фотографии в усеве орденов, то подписывали: «дворянин Калужской губернии». Но обликом своим выражал он подкупающую простонародность – на кочанной коротковолосой голове да лопатная чёрная с сединою борода и простовато выставляемый взгляд. И в самом распорядке дня своего: очень рано вставал и ходил по штабу корпуса, порта, округа или фронта, чем командовал, – как по крестьянскому двору, высматривая недостатки и поднимая на распёку. И та же простонародность в манере говорить, а ещё больше – умно молчать, поглаживая бороду. И известна была его отеческая попечительность к солдату. И Государю он никогда не высказывал никаких неприятных соображений, а был безхитростен и душевен. И от Турецкой