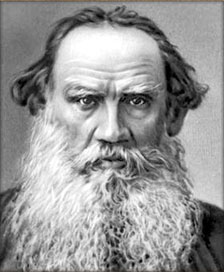высшую истину, отречься от всего того, что прежде считал истиной. [40]
Знание всегда будет ложно, если целью знания поставлена внешняя выгода. Только то учение, которое вызвано внутренними потребностями, бывает полезно себе и ближним. [41]
Знание – орудие, а не цель. [42]
– 4 –
Религиозное познание есть то, на котором зиждется всякое другое. И оттого оно предшествует всякому познанию. [43]
Высшая мудрость основана не на одном разуме, не на тех светских науках физики, истории, химии и т. д., на которые распадается знание умственное. Высшая мудрость одна. Высшая мудрость имеет одну науку – науку всего, науку, объясняющую всё мироздание и занимаемое в нём место человека. Для того, чтобы вместить в себя эту науку, необходимо очистить и обновить своего внутреннего человека, и потому прежде, чем знать, нужно верить и совершенствоваться. И для достижения этих целей в душе нашей вложен свет Божий, называемый совестью. [44]
…Наука и искусство без религиозной основы – вздор и зло. [45]
Все научные исследования ничтожны без религиозной основы. Разум человека действует плодотворно только тогда, когда он опирается на данные религии. Только религия, ставя разумные цели, распределяет поступки людей по их значению. [46]
Разумное и нравственное всегда совпадают. [47]
Разумный человек не может быть зол. Добрый человек всегда разумен. [48]
Чем больше слушается человек разума, тем легче ему быть добрым, и чем больше в нём доброты, тем разумнее бывают его суждения. Увеличивай в себе любовь разумом, а разум – любовью. [49]
Настоящее познание (…) даётся сердцем, т. е. любовью. Мы знаем то, что любим, только. [50]
Я представляю себе знания как трубу: если она направлена к свету – она собирает, концентрирует свет, а если её направить в сторону, то она ни к чему не нужна. [51]
…Из всех наук, которые человек может и должен знать, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра; и из всех искусств главнейшее есть искусство уметь избегать зла и творить добро с наименьшей, по возможности, затратой усилий. [52]
…Знание того, как должно жить людям, со времён Моисея, Солона, Конфуция считалось всегда наукой, самой наукой наук. И только в наше время стало считаться, что наука о том, как жить, есть вовсе не наука, а что настоящая наука есть только наука опытная, начинающаяся математикой и кончающаяся социологией. [53]
Если бы хоть 1/10 тех сил, которые тратятся теперь на предметы простого любопытства и практического применения, тратились на истинную науку, учреждающую жизнь людей, то у большей половины теперь больных людей не было бы тех болезней, от которых вылечивается крошечная часть в клиниках и больницах; не было бы воспитанных на фабриках худосочных, горбатых детей, не было бы, как теперь, смертности 50 % детей, не было бы вырождения целых поколений, не было бы проституции, не было бы сифилиса, не было бы убийства сотен тысяч на войнах, не было бы тех ужасов безумия и страданий, которые теперешняя наука считает необходимым условием человеческой жизни. [54]
То, что называется наукой, представляет или самую важную человеческую деятельность, когда цель её открыть законы жизни людей, или самое ничтожное и одуряющее занятие – исследование всего того, что может вызвать любопытство праздных людей. [55]
Учёный тот, кто много знает из книг; образованный тот, кто усвоил себе все самые распространённые в его время знания; просвещённый тот, кто понимает смысл своей жизни. [56]
Самое обычное явление нашего времени – видеть то, что люди, считающие себя учёными, образованными и просвещёнными, зная бесчисленное количество ненужных вещей, коснеют в самом глубоком невежестве, не только не зная смысла своей жизни, но гордясь этим незнанием. И наоборот, не менее обычное явление встречать среди малограмотных и безграмотных людей, ничего не знающих о химической таблице, параллаксах и свойствах радия, людей истинно просвещённых, знающих смысл своей жизни и не гордящихся этим. [57]
Много ли железа и какие металлы в солнце и звёздах – это скоро узнать можно; а вот то, что обличает наше свинство, – это трудно, ужасно трудно… [58]
Если человек знает все науки и говорит на всех языках, но не знает, что такое тот бесконечный мир, среди которого он живёт, и не знает, главное, того, зачем он живёт и что от него требуется, то он гораздо менее просвещён той безграмотной старухи, которая верит в Бога, по воле которого она признаёт себя живущей, и знает, что этот Бог требует от неё праведности. Она просвещённее учёного потому, что у неё есть ответ на главный вопрос: что такое её жизнь и как ей надо жить… [59]
Помощь от общения с людьми и чтения книг, разумеется, есть, но всё ничто, если нет в душе источника воды живой. То наборная вода, а то ключевая. И потому я всегда того мнения, что если можно иметь общение и книги, то это очень хорошо, и надо пользоваться этим, но важности в этом нет. Важно одно – это внутренняя работа над собой, состоящая, главное, в соблюдении чистоты своей жизни, (…) в соблюдении себя чистым сосудом. Если только душа человека чиста, то бог поселяется в ней. Бог наполняет всё, и если вынешь из души то, что не божье, то бог наполнит её, и наполнит в той мере, в которой вынуто не божье. [60]
Они, учёные (…), делают некоторое определённое дело, и нужное, они собирают, сличают, компилируют всё однородное. Они, каждый из них, справочная контора, а их труды справочные книги. (…) Cataloque raisonne (толковый указатель (фр.)) и экстракты из книг – полезны, но их воображение, что этими компиляциями, собраниями, каталогами они увеличивают знание, в этом комическое заблуждение. Как только они выходят из области компиляций, они всегда врут и путают добрых людей. [61]
Что такое то я, которое я сознаю в себе отделённым от Всего? Что такое то Всё, от чего я сознаю себя отделённым, и каково отношение моего я ко Всему? т. е. то, что разумеется под словами: учения о душе, учения о Боге и учения о нравственности. Без этих учений о душе, о Всём, о нравственности не может быть ни разумной, ни нравственной жизни людей, не может быть разумного знания.
А эти-то учения вполне отсутствуют в нашем мире. От этого и наша безумная жизнь, и наши праздные упражнения мысли, называемые нами истинной наукой. [62]
То, что должно бы быть основою всех знаний, если не единственным предметом знания – учение нравственности – стало для некоторых не лишённым интереса предметом, для большинства «образованных» – ненужной фантазией отсталых, необразованных людей. [63]
Люди отрицают всякую науку, самую сущность науки – определение того, в чём назначение и благо людей, и это отрицание науки называют наукой. [64]
Совы видят в темноте, но слепнут при солнечном свете. То же бывает и с людьми учёными. Они знают много ненужных научных пустяков, но ничего не знают и не могут знать о самом нужном для жизни… [65]
Способность ума впитывать знания не беспредельна. И потому нельзя думать, что чем больше знаешь, тем лучше. Знание большого количества пустяков – непреодолимая помеха для того, чтобы знать то, что истинно нужно. [66]
Китайцы говорят: мудрость в том, чтобы знать, что ты знаешь то, что знаешь, – и знаешь, что не знаешь, чего не знаешь; я прибавляю к этому: ещё большая мудрость знать, что нужно знать и чего можно не знать, и что знать прежде и что после. [67]
Человеческая мудрость не заключается в познании вещей. Есть бесчисленное множество вещей, которых мы не можем знать. Не в том мудрость, чтобы знать как можно больше. Мудрость человеческая в познании того порядка, в котором полезно знать вещи; она состоит в умении распределять свои знания соответственно степени их важности. [68]
В знании важно не количество знаний, даже не точность их (потому что совершенно точных знаний нет и никогда не будет), а разумная связность их: то, чтобы они со всех сторон освещали мир. [69]
…В области знания существует центр, и от него бесчисленное количество радиусов. Вся задача в том, чтобы определить длину этих радиусов и расстояние их друг от друга. [70]
…Знаете, как я себе представляю знания? В виде сферы, из центра которой идут радиусы. Они могут быть бесконечны… Для верности формы сферы нужно, чтобы радиусы были одинаковы… [71]
Науки человеческие всё подразделяют – чтобы понять, всё убивают – чтобы рассмотреть. В святой науке (…) всё едино, всё познаётся в своей совокупности и жизни. [72]
Д(…) спросил меня, как и чем я различаю разум от чувства; я отвечал ему, что не знаю этого деления, или, скорее, что не признаю этого деления основным. Есть дух, живущий в нашем теле, проходящий через него и, как через призму, проходя через него, раздробляющийся на то, что мы называем разумом, чувством, верою и т. п. [73]
Деление на умственное и духовное мне кажется произвольным. Мне кажется, что то же самое свойство человеческого существа, которое открывает ему Пифагорову теорему, открывает ему и несомненную обязательность любви к ближнему. [74]
Большинство жизненных задач решаются как алгебраические уравнения: приведением их к самому простому виду. [75]
Знание и наука – разница. Знание – всё, наука – часть. Так же, как разница между религией и церковью. [76]
Что теперь считается наукой, то будет считаться в будущем отклонением деятельности ума от здравого смысла. [77]
В чём бы ни полагали люди своё назначение и благо, наука будет учением об этом назначении и благе, а искусство – выражением этого учения. [78]
Не то, что мы назовём наукой, определит жизнь, а наше понятие о жизни определит то, что следует признать наукой. [79]
Религия не есть то, во что верят люди, и наука не то, что изучают люди, а религия то, что даёт смысл жизни, а наука то, что нужно знать людям. [80]
Наука не есть то, что люди назовут этим именем, а то, что составляет высший и нужнейший для блага людей предмет познания. [81]
Исследует человек жизнь только для того, чтобы она была лучше. Так и исследовали жизнь люди, подвигающие вперёд человечество на пути знания. [82]
– 5 –
Религиозное учение должно быть основой воспитания. Воспитание без религиозного учения (…) есть не воспитание, а непременно и развращение, и притупление высших способностей. [83]
…В нашем называемом христианском мире не только опущен, но отрицается тот главный предмет преподавания, без которого не может быть осмысленного приобретения каких бы то ни было знаний. Опущена и отрицается необходимость религиозного и нравственного преподавания, т. е. передачи молодым поколениям учащихся тех, с самых