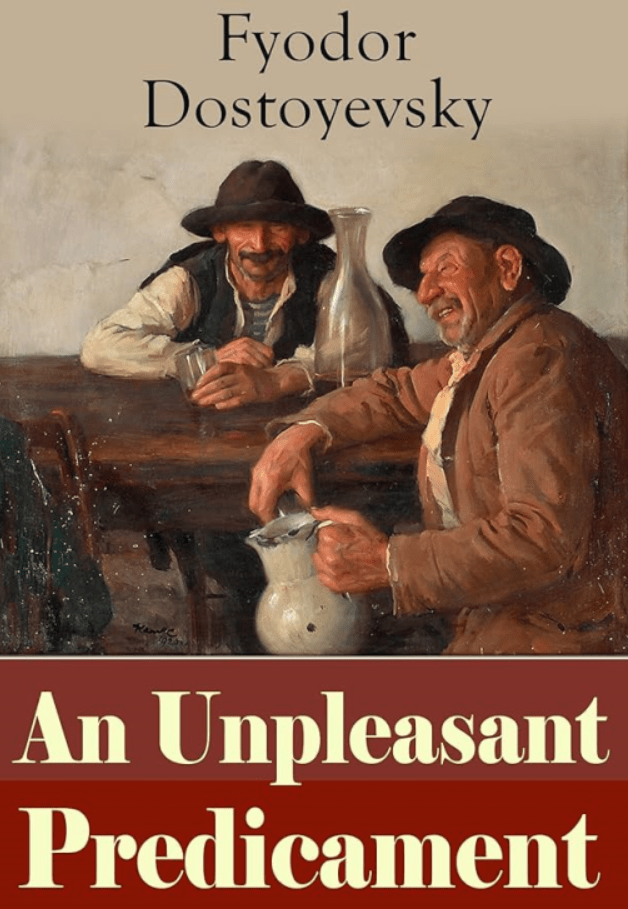
«Скверный анекдот» (1862) — жесткая сатира на бюрократических деятелей эпохи реформ.
Впервые опубликовано в журнале «Время», ноябрь 1862 г. Текст воспроизводится по
тексту Полного собрания сочинений Достоевского Федора Михайловича
* * * Этот скверный анекдот случился именно в то самое время, когда началось с такою неудержимою силою и с таким трогательно-наивным порывом возрождение нашего любезного отечества и стремление всех доблестных сынов его к новым судьбам и надеждам.
Тогда, однажды зимой, в ясный и морозный вечер, впрочем часу уже в двенадцатом, три чрезвычайно почтенные мужа сидели в комфортной и даже роскошно убранной комнате, в одном прекрасном двухэтажном доме на Петербургской стороне и занимались солидным и превосходным разговором на весьма любопытную тему. Эти три мужа были все трое в генеральских чинах. Сидели они вокруг маленького столика, каждый в прекрасном, мягком кресле, и между разговором тихо и комфортно потягивали шампанское.
Бутылка стояла тут же на столике в серебряной вазе — со льдом. Дело в том, что хозяин, тайный советник Степан Никифорович Никифоров, старый холостяк лет шестидесяти пяти, праздновал свое новоселье в только что купленном доме, а кстати уж и день своего рождения, который тут же пришелся и который он никогда до сих пор не праздновал. Впрочем, празднование было не бог знает какое; как мы уже видели, было только двое гостей, оба прежние сослуживцы г-на Никифорова и прежние его подчиненные, а именно: действительный статский советник Семен Иванович Шипуленко и другой, тоже действительный статский советник, Иван Ильич Пралинский.
Они пришли часов в девять, кушали чай, потом принялись за вино и знали, что ровно в половине двенадцатого им надо отправляться домой. Хозяин всю жизнь любил регулярность. Два слова о нем: начал он свою карьеру мелким необеспеченным чиновником, спокойно тянул канитель лет сорок пять сряду, очень хорошо знал, до чего дослужится, терпеть не мог хватать с неба звезды, хотя имел их уже две, и особенно не любил высказывать по какому бы то ни было поводу свое собственное личное мнение.
Был он и честен, то есть ему не пришлось сделать чего-нибудь особенно бесчестного; был холост, потому что был эгоист; был очень не глуп, но терпеть не мог выказывать свой ум; особенно не любил неряшества и восторженности, считая ее неряшеством нравственным, и под конец жизни совершенно погрузился в какой-то сладкий, ленивый комфорт и систематическое одиночество. Хотя сам он и бывает иногда в гостях у людей получше, но еще смолоду терпеть не мог гостей у себя, а в последнее время, если не раскладывал гранпасьянс, довольствовался обществом своих столовых часов и по целым вечерам невозмутимо выслушивал, дремля в креслах, их тиканье под стеклянным колпаком на камине.
Наружности был он чрезвычайно приличной и выбритой, казался моложе своих лет, хорошо сохранился, обещал прожить еще долго и держался самого строгого джентльменства. Место у него было довольно комфортное: он где-то заседал и что-то подписывал. Одним словом, его считали превосходнейшим человеком. Была у него одна только страсть или, лучше сказать, одно горячее желанье: это — иметь свой собственный дом, и именно дом, выстроенный на барскую, а не на капитальную ногу. Желанье его наконец осуществилось: он приглядел и купил дом на Петербургской стороне, правда далеко, но дом с садом, и притом дом изящный. Новый хозяин рассуждал, что оно и лучше, если подальше: у себя принимать он не любил, а ездить к кому-нибудь или в должность — на то была у него прекрасная двуместная карета шоколадного цвету, кучер Михей и две маленькие, но крепкие и красивые лошадки. Все это было благоприобретенное сорокалетней, копотливой экономией, так что сердце на все это радовалось.
Вот почему, приобретя дом и переехав в него, Степан Никифорович ощутил в своем спокойном сердце такое довольство, что пригласил даже гостей на свое рожденье, которое прежде тщательно утаивал от самых близких знакомых. На одного из приглашенных он имел даже особые виды. Сам он в доме занял верхний этаж, а в нижний, точно так же выстроенный и расположенный, понадобилось жильца.
Степан Никифорович и рассчитывал на Семена Ивановича Шипуленко и в этот вечер даже два раза сводил разговор на эту тему. Но Семен Иванович на этот счет отмалчивался. Это был человек тоже туго и долговременно пробивавший себе дорогу, с черными волосами и бакенбардами и с оттенком постоянного разлития желчи в физиономии. Был он женат, был угрюмый домосед, свой дом держал в страхе, служил с самоуверенностию, тоже прекрасно знал, до чего он дойдет, и еще лучше — до чего никогда не дойдет, сидел на хорошем месте и сидел очень крепко. На начинавшиеся новые порядки он смотрел хоть и не без желчи, но особенно не тревожился: он был очень уверен в себе и не без насмешливой злобы выслушивал разглагольствия Ивана Ильича Пралинского на новые темы.
Впрочем, все они отчасти подвыпили, так что даже сам Степан Никифорович снизошел до господина Пралинского и вступил с ним в легкий спор о новых порядках. Но несколько слов о его превосходительстве господине Пралинском, тем более что он-то и есть главный герой предстоящего рассказа. Действительный статский советник Иван Ильич Пралинский всего только четыре месяца как назывался вашим превосходительством, одним словом, был генерал молодой. Он и по летам был еще молод, лет сорока трех и никак не более, на вид же казался и любил казаться моложе.
Это был мужчина красивый, высокого роста, щеголял костюмом и изысканной солидностью в костюме, с большим уменьем носил значительный орден на шее, умел еще с детства усвоить несколько великосветских замашек и, будучи холостой, мечтал о богатой и даже великосветской невесте. Он о многом еще мечтал, хотя был далеко не глуп. Подчас он был большой говорун и даже любил принимать парламентские позы.
Происходил он из хорошего дома, был генеральский сын и белоручка, в нежном детстве своем ходил в бархате и батисте, воспитывался в аристократическом заведении и хоть вынес из него не много познаний, но на службе успел и дотянул до генеральства. Начальство считало его человеком способным и даже возлагало на него надежды. Степан Никифорович, под началом которого он и начал и продолжал свою службу почти до самого генеральства, никогда не считал его за человека весьма делового и надежд на него не возлагал никаких.
Но ему нравилось, что он из хорошего дома, имеет состояние, то есть большой капитальный дом с управителем, сродни не последним людям и, сверх того, обладает осанкой. Степан Никифорович хулил его про себя за избыток воображения и легкомыслие. Сам Иван Ильич чувствовал иногда, что он слишком самолюбив и даже щекотлив.
Странное дело: подчас на него находили припадки какой-то болезненной совестливости и даже легкого в чем-то раскаянья. С горечью и с тайной занозой в душе сознавался он иногда, что вовсе не так высоко летает, как ему думается. В эти минуты он даже впадал в какое-то уныние, особенно когда разыгрывался его геморрой, называл свою жизнь une existence manq?e [1] переставал верить, разумеется про себя, даже в свои парламентские способности, называя себя парлером, [2] фразером, и хотя все это, конечно, приносило ему много чести, но отнюдь не мешало через полчаса опять подымать свою голову и тем упорнее, тем заносчивее ободряться и уверять себя, что он еще успеет проявиться и будет не только сановником, но даже государственным мужем, которого долго будет помнить Россия.
Из этого видно, что Иван Ильич хватал высоко, хотя и глубоко, даже с некоторым страхом, таил про себя свои неопределенные мечты и надежды. Одним словом, человек он был добрый и даже поэт в душе. В последние годы болезненные минуты разочарованья стали было чаще посещать его. Он сделался как-то особенно раздражителен, мнителен и всякое возражение готов был считать за обиду. Но обновляющаяся Россия подала ему вдруг большие надежды. Генеральство их довершило. Он воспрянул; он поднял голову.
Он вдруг начал говорить красноречиво и много, говорить на самые новые темы, которые чрезвычайно быстро и неожиданно усвоил себе до ярости. Он искал случая говорить, ездил по городу и во многих местах успел прослыть отчаянным либералом, что очень ему льстило. В этот же вечер, выпив бокала четыре, он особенно разгулялся. Ему захотелось переубедить во всем Степана Никифоровича, которого он перед этим давно не видал и которого до сих пор всегда уважал и даже слушался.
Он почему-то считал его ретроградом и напал на него с необыкновенным жаром. Степан Никифорович почти не возражал, а только лукаво слушал, хотя тема интересовала его. Иван Ильич горячился и в жару воображаемого спора чаще, чем бы следовало, пробовал из своего бокала. Тогда Степан Никифорович брал бутылку и тотчас же добавлял его бокал, что, неизвестно почему, начало вдруг обижать Иван Ильича, тем более что Семен Иваныч Шипуленко, которого он особенно презирал и, сверх того, даже боялся за цинизм и за злость его, тут же сбоку прековарно молчал и чаще, чем бы следовало, улыбался. «Они, кажется, принимают меня за мальчишку», — мелькнуло в голове Ивана Ильича. — Нет-с, пора, давно уж пора было, — продолжал он с азартом.
— Слишком опоздали-с, и, на мой взгляд, гуманность первое дело, гуманность с подчиненными, памятуя, что и они человеки. Гуманность все спасет и все вывезет… — Хи-хи-хи-хи! — послышалось со стороны Семена Ивановича. — Да что же, однако ж, вы нас так распекаете, — возразил наконец Степан Никифорович, любезно улыбаясь. — Признаюсь, Иван Ильич, до сих пор не могу взять в толк, что вы изволили объяснять.
Вы выставляете гуманность. Это значит человеколюбие, что ли? — Да, пожалуй, хоть и человеколюбие. Я… — Позвольте-с. Сколько могу судить, дело не в одном этом. Человеколюбие всегда следовало. Реформа же этим не ограничивается. Поднялись вопросы крестьянские, судебные, хозяйственные, откупные, нравственные и… и… и без конца их, этих вопросов, и вс? вместе, вс? разом может породить большие, так сказать, колебанья. Вот мы про что опасались, а не об одной гуманности…
— Да-с, дело поглубже-с, — заметил Семен Иванович. — Очень понимаю-с, и позвольте вам заметить, Семен Иванович, что я отнюдь не соглашусь отстать от вас в глубине понимания вещей, — язвительно и чересчур резко заметил Иван Ильич, — но, однако ж, все-таки возьму на себя смелость заметить и вам, Степан Никифорович, что вы тоже меня вовсе не поняли. — Не понял. — А между тем я именно держусь и везде провожу идею, что гуманность, и именно
