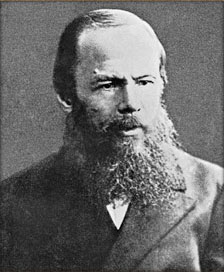что он первый поэтически воспроизвел, в лице Татьяны, русскую женщину…» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 7. С. 473). Писал он и о замечательных свойствах натуры Татьяны: «Вся ее жизнь проникнута тою целостностью, тем единством, которое в мире искусства составляет высочайшее достоинство художественного произведения». «…Татьяна — существо исключительное, натура глубокая…» (там же. С. 482–484). О расхождении Достоевского с Белинским в оценке решения Татьяны в последней сцене романа см. ниже, примеч. к с. 433.
Образ Татьяны привлекал внимание Достоевского и ранее. В статье «Книжность и грамотность» (1861) содержалась хоть и краткая, но очень высокая оценка: «…тип единственный до сих пор в нашей поэзии, перед которым с такой любовью преклонилась душа Пушкина как перед родным русским созданием…» (наст. изд. Т. 11. С. 95). См.: Фридлендер Г. М. У истоков почвенничества (Ф. М. Достоевский в журнале «Светоч») // «Известия АН СССР». Серия литературы и языка. 1971. № 5. С. 407.
744
…и ей предназначил поэт высказать мысль поэмы в знаменитой сцене последней встречи Татьяны с Онегиным. — Имеются в виду строфы XL–XLVI1 в восьмой главе «Евгения Онегина». В «Подростке» (1875) Достоевский писал: «…у великих художников в их поэмах бывают иногда такие больные сцены, которые всю жизнь потом с болью припоминаются, — например, последний монолог Оттело у Шекспира, Евгений у ног Татьяны…» (наст. изд. Т. 8. С. 382).
745
Можно даже сказать ~ кроме разве образа Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева. — На полях наборной рукописи речи о Пушкине эта фраза была вписана Достоевским и имела продолжение: «…и Наташи в „Войне и мире“ Льва Толстого». Затем эти слова были вычеркнуты и не вошли в печатный текст. Но вся эта фраза была полностью произнесена Достоевским в речи 8 июня. Н. Н. Страхов свидетельствовал: «При имени Тургенева зала, как всегда, загрохотала от рукоплесканий и заглушила голос Федора Михайловича. Мы слышали, как он продолжал: «…и Наташи в „Войне и мире“ Толстого». Но никто в зале не мог их слышать, и он должен был остановиться, чтоб переждать, когда утихнет вновь и вновь подымавшийся шум. Когда он стал продолжать речь, он не повторил этих заглушённых слов и потом выпустил их в печати, так как они действительно не были произнесены во всеуслышание» (Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. II. С. 351).
«Дворянское гнездо» Достоевский ценил выше всех романов Тургенева. В «Дневнике писателя» за 1876 г. упоминания этого романа Тургенева связаны с размышлениями о Пушкине. В февральском выпуске Достоевский утверждал, что все вековечное и прекрасное в типах Гончарова и Тургенева («Обломов» и «Дворянское гнездо») от того, что «они в них соприкоснулись с народом», и поставил это в прямую зависимость от поворота к народу, который совершил Пушкин (см. наст. изд. Т. 13. С. 44). См. также о Татьяне, женщинах Тургенева и Толстого в июльско-августовском выпуске «Дневника» за 1876 г. (там же. С. 88–89). И. С. Аксаков писал. О. Ф. Миллеру 17 августа 1880 г. о реакции Анненкова и Тургенева на речь Достоевского: «Скажу, впрочем, что оба они, особенно Тургенев, были отчасти (и даже не отчасти, а на две трети) подкуплены упоминанием о Лизе Тургенева. [266] Ив. Сергеевич вовсе этого от Достоевского не ожидал, покраснел и просиял удовольствием. <…> Некоторые тогда же подумали, что со стороны Достоевского это было своего рода captatio benevolentiae (заискивание — лат.). Это несправедливо. Ровно дней за двенадцать <…> Достоевский в разговоре со мною о Пушкине повторил почти то же, что потом было им прочтено в „Речи“ и также упомянул о Лизе Тургенева, прибавив, впрочем, при этом, что после этого Тургенев ничего лучшего не написал…» (Литературное наследство. М., 1973. Т. 86. С. 514).
746
…Онегин совсем даже не узнал Татьяну — может быть, принял ее за «нравственный эмбрион». — Ср. со словами Белинского из девятой статьи о Пушкине: «Немая деревенская девочка с детскими мечтами — и светская женщина, испытанная жизнию и страданием, обретшая слово для выражения своих чувств и мыслей: какая разница! <…> Да это уголовное преступление — не подорожать любовию нравственного эмбриона!» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955. Т. VII. С. 499).
747
Если есть кто нравственный эмбрион ~ сам, Онегин… — Д. И. Писарев также писал в статье «Пушкин и Белинский» (1865): «Наконец отвращение Онегина к упорному труду <…> составляет симптом очень печальный, по которому мы уже заранее имеем право предугадывать, что Онегин навсегда останется эмбрионом» (Писарев Д. И. Сочинения. М., 1956. Т. III. С. 314).
748
…«постигал душой все ее совершенства». — У Пушкина:
Внимать вам долго, понимать
Душой все ваше совершенство.
(«Евгений Онегин», гл. восьмая, строфа XXXII — «Письмо Онегина к Татьяне»)
749
…в этих мировых страдальцах так много подчас лакейства духовного! Ср. также ниже: …рабство и лакейство души перед авторитетом. — Лакейство как слепое подчинение авторитету, следование готовой чужой догме относится к выражениям, постоянно применявшимся Достоевским по отношению к либералам-западникам (в «Бесах», в «Дневнике писателя» 1876 г.).
750
…отправился с мировою тоской своею — кипя здоровьем и силою… — Имеются в виду странствия Онегина, описанные в строфах XII и XIII восьмой главы «Евгения Онегина» и в «Отрывках из путешествия Онегина», цитируемых ниже.
751
В бессмертных строфах романа — загадочного еще для нее человека. — Речь идет о строфах XVI–XXV седьмой главы «Евгения Онегина».
752
Уж не пародия ли он? — Цитата из строфы XXIV седьмой главы «Евгения Онегина».
753
…кто сказал, что светская, придворная жизнь тлетворно коснулась ее души — светские понятия были отчасти причиной отказа ее
Онегину? — Имеются в виду, с одной стороны, Белинский, с другой — Писарев. В последнем объяснении Татьяны с Онегиным, по утверждению Белинского, сказалось «все, что составляет сущность русской женщины с глубокою натурою» — задушевность, чистота и искренность чувств. Но критик пишет и о «тщеславии добродетелью, под которою замаскирована рабская боязнь общественного мнения», и что пока Татьяна «в свете — его мнение всегда будет ее идолом» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955. Т. VII. С. 498, 500). Писарев же в своей нарочито-заостренной полемической характеристике Татьяны заявляет более резко: «…отталкивая его (Онегина. — Ред.) из уважения к требованиям света, она презирает „всю эту ветошь маскарада“; презирая всю эту ветошь, она занимается ею с утра до вечера, „свет мне противен, но я намерена безусловно исполнять все его требования“» — так интерпретировал критик слова Татьяны (Писарев Д. И. Сочинения. М., 1956. Т. III. С. 349).
754
Но я другому отдана // И буду век ему верна. — У Пушкина:
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.
(«Евгений Онегин», гл. восьмая, строфа XLVII)
755
…(а не южная или не французская какая-нибудь)… — Современники усматривали в этих словах намек на возлюбленную Тургенева Полину Виардо-Гарсиа.
756
Нет, русская женщина смела. Русская женщина смело пойдет за тем, во что поверит, и она доказала это. — Речь идет о подвиге декабристок. Еще в 1854 г. в письме от 22 февраля Достоевский писал. М. М. Достоевскому о встрече с А. Г. Муравьевой, П. Е. Анненковой и Н. Д. Фонвизиной на пересыльном пункте в Тобольске в 1850 г.: «Ссыльные старого времени (то есть не они, а жены их) заботились о нас как о родне. Что за чудные души, испытанные 25-летним горем и самоотвержением. Мы видели их мельком, ибо нас держали строго. Но они присылали нам пищу, одежду, утешали и ободряли нас». В «Дневнике писателя» за 1873 г. писатель так выразил свое восхищение: «Мы увидели этих великих страдалиц, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь. Они бросили все, знатность, богатство, связи и родных, всем пожертвовали для высочайшего нравственного долга, самого свободного долга, какой только может быть. Ни в чем неповинные, они в долгие двадцать пять лет перенесли все, что перенесли их осужденные мужья» (наст. изд. Т. 12). Говоря о высоком нравственном облике русской женщины, Достоевский в июльско-августовском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. вновь напомнил о декабристках (см. наст. изд. Т. 13).
757
Этому-то старику генералу… — Ошибочное представление о возрасте мужа Татьяны было широко распространено в 60-70-е годы. Анализ романа Пушкина в сопоставлении с реальными биографиями военных деятелей той эпохи позволил Н. О. Лернеру сделать вывод о том, что мужу Татьяны было не более 35 лет. «В своей знаменитой речи о Пушкине (1880 г.) он (Достоевский. — Ред.), писал Лернер, несколько раз назвал мужа Татьяны «стариком», «старцем», «старым мужем»; эта старость в глазах писателя увеличивала жертву Татьяниной верности. Жалостливое сердце Достоевского невольно подсказало эту, по существу ненужную, черту, не оправдываемую ни показаниями самого создателя Онегина, ни общеисторическими условиями онегинской эпохи» (Лернер Н. О. Муж Татьяны // Лернер Н. О. Рассказы о Пушкине. Л., 1929. С. 215).
758
…«с слезами заклинаний молила мать»… — «Евгений Онегин», гл. восьмая, строфа XLV11.
759
А разве может человек основать свое счастье на несчастье другого? ~ Чем успокоить дух, если назади стоит нечестный, безжалостный, бесчеловечный поступок? — Здесь и ниже (см. следующие примечания) отразились идеи, составляющие зерно философско-этической проблематики романов «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы»: утверждение о невозможности достижения высокой цели низкими средствами и общего блага — ценою страдания отдельной личности, о пагубности бесчеловечного поступка для общества и личности самого преступившего, осуждение индивидуализма.
760
Позвольте, представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой ~ Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? — Ср. со словами Ивана, обращенными к Алеше, в главке «Бунт» книги «Pro u contra» романа «Братья Карамазовы»: «…представь, что ты сам возводишь здание судьбы человеческой <…>, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице <…> согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги!» (наст. изд. Т. 10).
761
И можете ли вы допустить хоть на минуту идею, что люди ~ согласились бы сами принять от вас такое счастие, если в фундаменте его заложено страдание ~ и, приняв это счастие, остаться навеки счастливыми? — В «Братьях Карамазовых» сходным вопросом к Алеше закончил Иван свое рассуждение о построенном на страдании здании человеческой судьбы: «И можешь ли ты допустить идею, что люди, для которых ты строишь, согласились бы сами принять свое счастие на неоправданной крови маленького замученного, а приняв, оставаться навеки счастливыми?».
762
Скажите, могла ли решить иначе Татьяна, с ее высокою душой… — С самого начала работы над пушкинской речью Достоевский неизменно подчеркивал принципиальную значимость развязки «Онегина». В одном из первых черновых