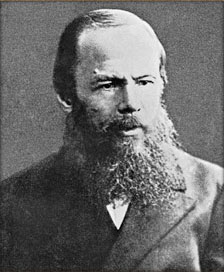внушали опасения богоборческие мотивы романа, то Леонтьев пошел дальше: руководствуясь учением официального православия, он отыскал „изъяны“ и в положительной программе Достоевского, вложенной в уста Зосимы. Эти „изъяны“ — стремящийся к переустройству действительности гуманизм, тяготение к которому столь явственно обнаружилось в речи Достоевского о Пушкине; недостаточная близость ищущей мысли писателя (как по существу, так и по форме) к православно-церковной ортодоксии.
Из других суждений о романе, появившихся в 1880 г., наиболее значительны „Литературные очерки“ Буренина, печатавшиеся в „Новом времени“,[78] и статья И. Павлова в славянофильской газете „Русь“, издававшейся И. С. Аксаковым.[79]
Среди последующих печатных откликов на роман преобладают журнальные статьи итогового характера, в которых спор с автором „Братьев Карамазовых“ нередко перерастает в бурную полемику между его сторонниками и противниками. Несмотря на односторонность и неполноту многих оценок, диктуемых направлением того или иного журнала, многое из сказанного о романе в критике начала 1880-х годов не утратило важного значения для процесса последующего фундаментального историко-литературного и теоретического исследования творчества Достоевского.
Анализ противоречивости идей Достоевского при общей демократической интерпретации двойственности его творчества содержат и „Записки современника“ Н. К. Михайловского. 2 февраля 1881 г. в собрании Юридического общества с речью о Достоевском выступил А. Ф. Кони, выдвинувший тезис о том, что „правда и милость“, лежащая в основе отношения Достоевского к преступлению и наказанию, вполне гармонирует с целями реформированного суда, помогает практическому и научному совершенствованию принципов юриспруденции.[80] Значительная часть „Записок современника“ посвящена полемике с этой речью. „Я не могу согласиться, — писал Михайловский, — чтоб связь творчества Достоевского с юриспруденцией была исчерпана речью г-на Кони. Не буду распространяться о той даже не особенно тонкой насмешке, которою Достоевский облил «новый, реформированный суд“ <…> в «Братьях Карамазовых“. Напомню только заветную, излюбленную мысль покойного о необходимости страдания, в силу которой он строго порицал суд присяжных за наклонность к оправдательным приговорам и требовал «строгих наказаний, острога и каторги». А юридическая идея, лежащая в основании «Братьев Карамазовых», та идея, что преступная мысль должна быть так же наказываема, как и преступное деяние? Нет, если бы я обладал красноречием г-на Кони, я сказал бы, может быть, о Достоевском: вот человек, в увлекательной форме вливавший в юридическое сознание общества самые извращенные понятия. Конечно, я сказал бы не правду, а только половину правды, но и г-н Кони тоже говорит половину правды, а не всю правду“.
Следует выделить обобщающие суждения Михайловского об эволюции Достоевского-психолога: „…Достоевский со времен Добролюбова, — отмечал он, — значительно вырос как изобразитель внутренней, душевной драмы. «Преступление и наказание“ (высший момент развития творческой силы Достоевского) по сложности мотивов и тонкости их разработки неизмеримо выше всего, что имел под руками Добролюбов. Да и в <…> «Идиоте“, «Бесах», «Братьях Карамазовых» есть страницы такого огромного достоинства, что о «слабости художественного чутья» тут, конечно, не может быть и речи».[81]
Вслед за статьей Михайловского появилась статья М. А. Антоновича „Мистико-аскетический роман“. В полемическом истолковании Антоновича религиозно-философская проповедь Достоевского приобрела зловещий оттенок антигуманного клерикализма, направленного на подавление свободы человеческого духа. Антонович не заметил своеобразия воззрений Достоевского на западную и восточную церковь, на католицизм и православие; он поставил открыто тенденциозно знак равенства между убеждениями Достоевского и Великого инквизитора: „…Инквизитор уверен, что человечество, жестоко разочаровавшись в своих силах, своих надеждах и мечтах, придет к ним, т. е. к представителям высшего авторитета на земле, и сложит к ногам их свой гордый ум и свою буйную волю. Это так и должно быть, это и есть единственный исход, и по мнению наших старцев в романе, и самого автора его“.[82]
Последним откликом на роман в 1881 г., свидетельствующим о разногласиях в демократической критике при оценке творчества и личности писателя, была статья Л. Алексеева (Л. А. Паночини) в журнале „Русское богатство“.
„Общественно-политические идеалы Достоевского в основаниях своих, — вернее, те субъективные, основанные на нравственных требованиях автора положения, из которых он выводит свое мировоззрение, — так высоки и человечны, — отмечал автор статьи, — и в то же время выводимое из них нравственно-политическое учение так элементарно нелогично в своем построении, так несовместимо с умственными привычками интеллигентного меньшинства, что ожидать вреда от проповеди Достоевского невозможно: он — не опасный противник прогресса, он даже — не противник <…> Достоевский не найдет <…> последователей своему учению. Но своим искренним, честным, глубоко правдивым отношением ко всему, о чем он берется судить, он поучает читателя, как надо приступать к суждению о делах людских <…> Достоевский будит чувство и будит мысль. Вся непостижимая галиматья, в которую он веровал, вся его проповедь исчезает при этом <…> читатель не замечает ее, потому что все заступает, все покрывает собой — страстная любовь автора к людям, его глубокое „проникновение“ в страждущие души… Несмотря на все усилия, какие он делал для того, чтобы стать поборником мрака, — он является светочем…“[83]
В 1883 г. Л. Н. Толстой говорил Г. А. Русанову, что „не мог дочитать“ „Карамазовых“.[84] В последующие годы отношение его к роману меняется. 2–5 ноября 1892 г. Толстой перечитывает „Карамазовых“ и пишет жене: „Очень мне нравится“.[85] Особенно сочувственно выделял Толстой начиная с середины 1880-х годов в романе образ Зосимы и его поучения, созвучные нравственным идеалам позднего Толстого. Рассказ Зосимы о поединке (ч. II, кн. VI, гл. II) он в 1905 г. читал вслух. „То место, где офицер дает пощечину денщику, Л<ев> Н<иколаевич> прочел внятно, — записал об этом чтении мемуарист, — а читая то, где он раскаивается в том, что сделал, рыдал и глотал слезы“.[86] „Братья Карамазовы“ были одной из последних книг, читаемых Толстым.[87]
В 1885 г. Толстой ставит в один ряд (по силе реалистического воплощения) образы Федора Карамазова и Ивана Грозного в знаменитой картине И. Е. Репина. В 1886 г. он писал с негодованием о тогдашней царской цензуре: „Все запрещают <…> Старца Зосиму и того запретили“.[88] Толстой имел в данном случае в виду не пропущенную цензурой переработку для издательства „Посредник“ главы из романа Достоевского под заглавием „Старец Зосима“.
Эмоциональны и глубоки суждения о романе „Братья Карамазовы“ художника И. Н. Крамского. 14 февраля 1881 г. он писал П. М. Третьякову: „Я не знал какую роль Достоевский играл в Вашем духовном мире, хотя покойный играл роль огромную в жизни каждого (я думаю), для кого жизнь есть глубокая трагедия, а не праздник. После «Карамазовых“ (и во время чтения) несколько раз я с ужасом оглядывался кругом и удивлялся, что все идет по-старому, а что мир не перевернулся на сваей оси. Казалось: как после семейного совета Карамазовых у старца Зосимы, после «Великого инквизитора“ есть люди, обирающие ближнего, есть политика, открыто исповедующая лицемерие, есть архиереи, спокойно полагающие, что дело Христа своим чередом, а практика жизни своим: словом, это нечто до такой степени пророческое, огненное, апокалипсическое, что казалось невозможным оставаться на том месте, где мы были вчера, носить те чувства, которыми мы питались, думать о чем-нибудь, кроме страшного дня судного. Этим я только хочу сказать, что и Вы и я, вероятно, не одиноки. Что есть много душ и сердец, находящихся в мятеже <…> Достоевский действительно был нашею общественною совестью!».[89] Прочность, долговременность такого отношения И. Н. Крамского к роману Достоевского подтверждается его письмом к А. С. Суворину от 21 января 1885 г.: „…когда я читал «Карамазовых“ то были моменты, когда казалось: «Ну, если и после этого мир не перевернется на оси туда, куда желает художник, то умирай человеческое сердце!“»[90] Восторженно отнесся к „Братьям Карамазовым“ и великий русский физиолог И. П. Павлов. Противоположное Крамскому критическое отношение И. Е. Репина к „Братьям Карамазовым“ отражено в его письме к художнику от 16 февраля 1881 г.[91] Из суждений русских писателей конца XIX — начала XX в. о романе надо выделить также суждения В. Г. Короленко, критиковавшего утопические идеалы автора „Карамазовых“ и сочувственно выделявшего в нем главу „Бунт“.
В конце XIX и начале XX в. философская и этическая проблематика романа привлекла пристальный интерес представителей символистской критики и русской идеалистической философской мысли — В. В. Розанова, А. Л. Волынского, Д. С. Мережковского, С. Н. Булгакова, Вяч. Иванова, Л. Шестова, Э. Л. Радлова, Н. А. Бердяева и других, уделивших „Карамазовым“ значительное место в общих трудах о Достоевском, а также ряд специальных статей. Обратив серьезное внимание на философско-этическое содержание „Карамазовых“ и подвергнув философскому анализу многие из образов романа, эти критики и исследователи — идеалисты и символисты — стремились опереться на „Карамазовых“ в построении собственных философских и эстетических концепций. Идеалистическое направление в толковании романа вызвало отпор А. Луначарского и М. Горького.[92]
10
Первые переводы „Братьев Карамазовых“ появились в восьмидесятые годы XIX в. сначала в Германии (1884), а затем во Франции (1888). В 1890 г. перевод „Карамазовых“ выходит в Норвегии, в 1894 г. — в Чехословакии, в 1901 г. — в Италии, в 1912 г. — в Англии, в 1915 г. — в Румынии, в 1923 г. — в Сербии.
„Братья Карамазовы“ не укладывались в рамки натуралистической эстетики и притягивали к себе тех, кто в Германии конца XIX — начала XX в. искал новых путей. В связи с этим здесь выходят в свет новые переводы романа, а его популярность неуклонно растет. Поэт и романист Ф. Верфель заявляет в 1910-е годы, что „Карамазовы“ способствовали формированию его поэтики, идейных и эстетических привязанностей. В стихах и романах Верфеля прямо или косвенно восходят к последнему роману Достоевского тема столкновения „детей“ и „отцов“, трактовка вины и ее искупления, мотив встречи человека с чертом. Многие его герои, подобно Ивану Карамазову, не атеисты, но „бунтари против авторитета божьего“.[93]
Большой интерес вызвали „Братья Карамазовы“ у А. Эйнштейна и Ф. Кафки. В своем дневнике Кафка пишет о Федоре Павловиче: „…отец братьев Карамазовых отнюдь не дурак, он очень умный, почти равный по уму Ивану, но злой человек, и, во всяком случае, он умнее, к примеру, своего не опровергаемого рассказчиком двоюродного брата или племянника, помещика, который считает себя выше его“. Отмечалась определенная философская перекличка новеллы Кафки „В исправительной колонии“ (1914, опубл. 1919) с „Легендой о Великом инквизиторе“.[94]
После перерыва, вызванного первой мировой войной, в 1920-е годы интерес к „Братьям Карамазовым“ вспыхивает в Германии с новой силой. Г. Гессе утверждал, что именно в „Карамазовых“ предвосхищено то, что он называл „закатом Европы“ и возвращением к „азиатскому идеалу“. Иначе осмыслил роман Достоевского С. Цвейг, писавший о нем: „Это миф о новом человеке и его рождении из лона русской