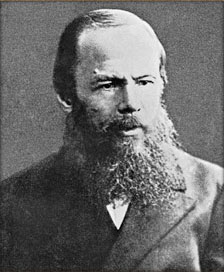Записки о русской литературе
а, стало
быть, уже по сему одному
нельзя сказать, что наша
земля неурядна, даже в строгом смысле
нельзя сказать, что и нищая. Напротив, в Европе, в этой Европе, где накоплено столько богатств, все гражданское
основание всех европейских наций – все подкопано и,
может быть, завтра же рухнет бесследно на веки веков, а взамен наступит
нечто неслыханно новое, ни на что прежнее не похожее. И все богатства, накопленные Европой, не спасут ее от падения, ибо «в
один миг исчезнет и
богатство».
Между тем на
этот, именно на
этот подкопанный и зараженный их
гражданский строй и указывают народу нашему как на
идеал, к которому он
должен стремиться, и лишь по достижении им этого идеала
осмелиться пролепетать свое какое-
либо слово Европе. Мы же утверждаем, что
вмещать и
носить в
себе силу любящего и всеединящего духа
можно и при теперешней экономической нищете нашей, да и не при
такой еще нищете, как теперь. Ее
можно сохранять и
вмещать в
себе даже и при
такой нищете, какая была после нашествия Батыева или после погрома Смутного времени, когда единственно всеединящим
духом народным была спасена Россия. И наконец, если уж в самом деле так необходимо
надо, для
того чтоб иметь право любить человечество и
носить в
себе всеединящую душу, для
того чтоб заключать в
себе способность не
ненавидеть чужие народы за то, что они непохожи на нас; для
того чтоб иметь желание не укрепляться от всех в своей национальности,
чтоб ей только одной все досталось, а другие национальности
считать только за
лимон,
который можно выжать (а народы такого духа ведь
есть в Европе!), – если и в самом деле для достижения всего этого
надо, повторяю я, предварительно
стать народом богатым и
перетащить к
себе европейское гражданское
устройство, то
неужели все-
таки мы и тут должны рабски скопировать это европейское
устройство (которое завтра же в Европе рухнет)?
Неужели и тут не дадут и не позволят русскому организму
развиться национально, своей органической
силой, а непременно обезличенно, лакейски подражая Европе? Да куда же
девать тогда русский-то
организм? Понимают ли эти господа, что такое
организм? А еще толкуют о естественных науках! «Этого
народ не позволит», – сказал по одному поводу, года два
назад,
один собеседник одному ярому западнику. «Так
уничтожить народ!» – ответил
западник спокойно и величаво. И был он не
кто-нибудь, а
один из представителей нашей интеллигенции.
Анекдот этот верен. Четырьмя этими пунктами я обозначил
значение для нас Пушкина, и
речь моя, повторяю, произвела
впечатление. Не заслугами своими произвела она это
впечатление (я напираю на это), не талантливостью изложения (соглашаюсь в этом со всеми моими противниками и не хвалюсь), а искренностью ее и, осмелюсь
сказать это, – некоторою неотразимостью выставленных мною фактов, несмотря на всю краткость и неполноту моей речи. Но в чем же, однако, заключалось «
событие»-то, как выразился Иван Сергеевич
Аксаков? А вот именно в том, что славянофилами, или так называемой русской партией (боже, у нас
есть «
русская партия»!), сделан был
огромный и
окончательный,
может быть, шаг к примирению с западниками; ибо славянофилы заявили всю
законность стремления западников в Европу, всю
законность даже самых крайних увлечений и выводов их и объяснили эту
законность чисто русским народным стремлением нашим, совпадаемым с самим
духом народным. Увлечения же оправдали – историческою необходимостью, историческим фатумом, так что в конце концов и в итоге, если
когда-нибудь будет он подведен, обозначится, что западники
ровно столько же послужили русской земле и стремлениям духа ее, как и все те чисто
русские люди, которые искренно любили родную землю и
слишком,
может быть, ревниво оберегали ее
доселе от всех увлечений «русских иноземцев». Объявлено
было, наконец, что все недоумения
между обеими партиями и все злые препирания
между ними были
доселе лишь одним великим недоразумением. Вот это-то и могло бы
стать, пожалуй, «событием», ибо представители славянофильства тут же,
сейчас же после речи моей,
вполне согласились со всеми ее выводами. Я же заявляю теперь – да и заявил это в самой речи моей, – что
честь этого нового шага (если только искреннейшее
желание примирения составляет
честь), что заслуга этого нового, если хотите, слова
вовсе не мне одному принадлежит, а всему славянофильству, всему духу и направлению «партии» нашей, что это
всегда было ясно для тех, которые беспристрастно вникали в
славянофильство, что
идея, которую я высказал, была уже не раз если не высказываема, то указываема ими. Я же сумел лишь
вовремя уловить минуту. Теперь вот
заключение: если западники примут наш
вывод и согласятся с ним, то и
впрямь,
конечно, уничтожатся все недоразумения
между обеими партиями, так что «западникам и славянофилам не о чем
будет и
спорить», как выразился Иван Сергеевич
Аксаков, «так как все
отныне разъяснено». С этой точки зрения,
конечно,
речь, моя была бы «событием». Но увы,
слово «
событие» произнесено
было лишь в искреннем увлечении с одной стороны, но примется ли другою стороною и не останется лишь в идеале, это уже
совсем другой вопрос.
Рядом с славянофилами, обнимавшими меня и жавшими мне руку, тут же на эстраде, едва лишь я сошел с кафедры, подошли ко мне
пожать мою руку и западники, и не какие-нибудь из них, а передовые представители западничества, занимающие в нем первую
роль, особенно теперь. Они жали мне руку с таким же горячим и искренним увлечением, как славянофилы <…>. <…> И если они примут хоть только половину нашего вывода и наших надежд на них, то
честь им и
слава и за это, и мы встретим их в восторге нашего сердца. Если даже одну половину примут они, то
есть признают хоть самостоятельность и
личность русского духа,
законность его бытия и человеколюбивое, всеединящее его
стремление, то и
тогда уже
будет почти не о чем
спорить, по крайней мере из основного, из главного.
Тогда действительно моя
речь послужила бы к основанию нового события. Не она сама, повторяю в
последний раз, была бы событием (она не достойна такого наименования), а великое Пушкинское
торжество, послужившее событием нашего единения – единения уже всех образованных и искренних русских людей для будущей прекраснейшей цели.
Глава вторая
Пушкин
(Очерк)
Произнесено 8 июня в заседании Общества любителей российской словесности
«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа», – сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое. Да, в появлении его заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое. Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с Петровской реформы, и появление его сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом. В этом-то смысле Пушкин есть пророчество и указание. Я делю деятельность нашего великого поэта на три периода. Говорю теперь не как литературный критик: касаясь творческой деятельности Пушкина, я хочу лишь разъяснить мою мысль о пророческом для нас значении его и что я в этом слове разумею. Замечу, однако же, мимоходом, что периоды деятельности Пушкина не имеют, кажется мне, твердых между собою границ. Начало «Онегина», например, принадлежит, по-моему, еще к первому периоду деятельности поэта, а кончается «Онегин» во втором периоде, когда Пушкин нашел уже свои идеалы в родной земле, восприял и возлюбил их всецело своею любящею и прозорливою душой. Принято тоже говорить, что в первом периоде своей деятельности Пушкин подражал европейским поэтам, Парни, Андре Шенье и другим, особенно Байрону. Да, без сомнения, поэты Европы имели великое влияние на развитие его гения, да и сохраняли влияние это во всю его жизнь. Тем не менее даже самые первые поэмы Пушкина были не одним лишь подражанием, так что и в них уже выразилась чрезвычайная самостоятельность его гения. В подражаниях никогда не появляется такой самостоятельности страдания и такой глубины самосознания, которые явил Пушкин, например, в «Цыганах» – поэме, которую я всецело отношу еще к первому периоду его творческой деятельности. Не говорю уже о творческой силе и о стремительности, которой не явилось бы столько, если б он только лишь подражал. В типе Алеко, герое поэмы «Цыгане», сказывается уже сильная и глубокая, совершенно русская мысль, выраженная потом в такой гармонической полноте в «Онегине», где почти тот же Алеко является уже не в фантастическом свете, а в осязаемо реальном и понятном виде. В Алеко Пушкин уже отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем. Отыскал же он его, конечно, не у Байрона только. Тип этот верный и схвачен безошибочно, тип постоянный и надолго у нас, в нашей Русской земле, поселившийся. Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих пор свое скитальчество и еще долго, кажется, не исчезнут. И если они не ходят уже в наше время в цыганские таборы искать у цыган в их диком своеобразном быте своих мировых идеалов и успокоения на лоне природы от сбивчивой и нелепой жизни нашего русского – интеллигентного общества, то всё равно ударяются в социализм, которого еще не было при Алеко, ходят с новою верой на другую ниву и работают на ней ревностно, веруя, как и Алеко, что достигнут в своем фантастическом делании целей своих и счастья не только для себя самого, но и всемирного. Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастие, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится, – конечно, пока дело только в теории. Это все тот же русский человек, только в разное время явившийся. Человек этот, повторяю, зародился как раз в начале второго столетия после великой Петровской реформы, в нашем интеллигентном обществе, оторванном от народа, от народной силы. О, огромное большинство интеллигентных русских, и тогда, при Пушкине, как и теперь, в наше время, служили и служат мирно в чиновниках, в казне или на железных дорогах и в банках, или просто наживают разными средствами деньги, или далее и науками занимаются, читают лекции – и все это регулярно, лениво и мирно, с получением жалованья, с игрой в преферанс, безо всякого поползновения бежать в цыганские таборы или куда-нибудь в места, более соответствующие нашему времени. Много-много что полиберальничают «с оттенком европейского социализма», но которому придан некоторый благодушный русский характер, – но ведь все это вопрос только времени. Что в том, что один еще и не начинал беспокоиться, а другой уже