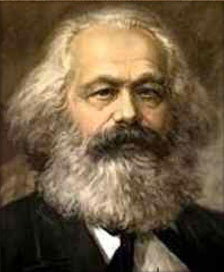он отказался в минуту опасности; все его дальнейшее поведение, которое было больше к лицу претенденту на престол, чем изгнаннику, — все это говорит о тенденциях, чуждых республиканским.
После сцены, смывшей с г-на Кошута подозрения в республиканизме, в его распоряжение было передано, согласно договору, три миллиона франков. В этом соглашении, как таковом, ничего странного не было, ибо для того, чтобы по-военному организовать венгерскую эмиграцию, требовались деньги, и почему правителю было не взять субсидии от своего нового союзника с таким же правом, с каким все деспотические государства Европы получали субсидии от Англии в течение всей антиякобинской войны? В качестве аванса на личные издержки Кошут тут же получил 50000 фр. и, кроме того, выговорил себе известные денежные выгоды, своего рода страховую премию на случай преждевременного прекращения войны. Финансовая прозорливость и мелодраматическая чувствительность отнюдь не исключают одна другую. Ведь Кошут уже во время венгерской революции — как это должен знать его бывший министр финансов Душек — благоразумно позаботился, чтобы его содержание выплачивалось ему не в кошутовских денежных знаках, а в серебре или в австрийских банкнотах.
Раньше чем Кошут покинул Тюильри, было у словлено, что он откроет в Англии кампанию за нейтралитет для нейтрализации якобы «австрофильских тенденций» правительства Дерби. Общеизвестно, как добровольная поддержка вигов и манчестерской школы позволила ему весьма успешно выполнить эту предварительную часть договора. Турне с лекциями, проделанное от Мэншен-хауза в Лондоне до Фритред-холла в Манчестере, составляло как бы антитезу к его англо-шотландскому турне осенью 1858 г., когда он продавал, взимая по шиллингу с человека, свою ненависть к Бонапарту и Шербуру, как к «the standing menace to England» {«постоянной угрозе Англии». Ред.}.
Значительнейшая часть венгерской эмиграции в Европе с конца 1852 г. отвернулась от Кошута. Перспектива нападения на Адриатическое побережье с французской помощью снова привлекла под его знамена большую ее часть. Его переговоры с военными лицами из новоиспеченных приверженцев не лишены были «декабрьского» привкуса. Чтобы иметь возможность передать им большую часть французских денег, Кошут повышал их в чинах, производя, например, лейтенанта в майоры. Прежде всего каждый из них получал на путевые расходы до Турина, затем богатый мундир (стоимость форменной одежды майора доходила до 150 ф. ст.) и, наконец, жалованье за шесть месяцев вперед с обещанием уплаты годичного жалованья после заключения мира. Но вообще жалованье не было слишком высоким: 10000 фр. главнокомандующему (Клапке), 6000 фр. — генералам, 5000 — бригадирам, 4000 — подполковникам, 3000 — майорам и т. д. Собравшиеся в Турине венгерские военные силы состояли почти исключительно из офицеров, без рядовых, и по этому поводу мне приходилось неоднократно выслушивать горькие жалобы со стороны «низов» венгерской эмиграции.
Генерал Мориц Перцель, разглядевший эту дипломатическую игру, как было уже упомянуто, отказался от участия в ней и публично заявил об этом. Клапка, несмотря на контрприказ Луи Бонапарта, настаивал на высадке у Фиуме, но Кошут удерживал венгерский эмигрантский корпус в предписанных ему директором театра сценических границах.
Лишь только в Турин пришло известие о заключении Виллафранкского мира, как Кошут, боясь, что его выдадут Австрии, сломя голову и тайно, за спиной своих воинских частей, помчался в Женеву. Ни Франц-Иосиф, ни Бонапарт, ни кто другой не вызывал к себе тогда столько ненависти в венгерском лагере в Турине, как Людвиг Кошут, и только комизм его последнего бегства заставил критику до известной степени молчать. По возвращении в Лондон Кошут обнародовал письмо к своему ручному слону, некоему Мак-Адаму из Глазго, в котором заявлял, что считает себя разочарованным, но не обманутым; он заканчивал трогательной фразой, что ему негде преклонить голову и все адресованные ему письма он просит направлять на квартиру его приятеля Ф. Пульского, давшего приют изгнаннику. Более чем с англосаксонской грубостью лондонская печать предложила Кошуту, если ему угодно, нанять себе на бонапартистские субсидии дом в Лондоне; это убедило его, что на некоторое время его роль в Англии сыграна.
Кроме ораторского таланта, Кошут обладает великим талантом молчать, когда аудитория обнаруживает к нему явно недоброжелательное отношение или же когда ему нечего сказать в свою защиту. Как солнцу, ему не чужды затмения. То, что он хоть раз в жизни сумел быть последовательным, доказало его недавнее письмо к Гарибальди, где он предостерегал последнего от нападения на Рим, чтобы не оскорбить императора французов, эту «единственную опору угнетенных национальностей».
Как Альберони в первую половину XVIII века называли колоссальным кардиналом, так Кошута можно назвать колоссальным Лангеншварцем. По существу он — импровизатор, получающий свои впечатления каждый раз от новой аудитории, а не творец, навязывающий миру свои оригинальные идеи. Как Блонден танцует на своем канате, так Кошут — на своем языке. Оторванный от атмосферы своего народа, он неизбежно должен был выродиться в простого виртуоза и впасть в пороки виртуозов. Характерная для импровизатора неосновательность мышления неизбежно находит свое отражение в двусмысленности его поступков. Если Кошут был некогда эоловой арфой, на которой бурно играл народный ураган, то теперь он только дионисово ухо, передающее шопоты в таинственных покоях Пале-Рояля и Тюильри.
Было бы совершенно несправедливо на одну доску с Кошутом ставить второго патрона Фогта, генерала Клапку. Клапка был одним из лучших венгерских революционных генералов. Он, как и большинство офицеров, собравшихся в 1859 г. в Турине, смотрит на Луи Бонапарта примерно так, как Франц Ракоци смотрел на Людовика XIV. Для них Луи Бонапарт представляет военную мощь Франции, которая может послужить на пользу Венгрии, но никогда — уже в силу одних географических условий — не может быть опасной для нее{137}. Но почему же Фогт ссылается на Клапку? Клапка никогда не отрицал, что он принадлежит к красной камарилье Плон-Плона. Чтобы из «друга» Клапки сделать поручителя за «друга» Фогта? Клапка не обладает особенным талантом в выборе своих друзей. Одним из его близких друзей в Коморне был полковник Ассерман. Послушаем, что говорит об этом полковнике Ассермане полковник Лапинский, служивший под начальством Клапки до сдачи Коморна и отличившийся потом в Черкесии своей борьбой против русских.
«Вилагошская измена»[561], — говорит Лапинский, — «вызвала сильнейший испуг среди находившихся в Коморне и ничего не делавших многочисленных штабных офицеров… Эти надушенные господа с вышитыми золотом воротниками, из которых многие не умели держать ружья в руках и не способны были командовать и тремя солдатами, бегали в панике друг к другу, придумывая способы любой ценой спасти свою шкуру. Сумев под всевозможными предлогами отделиться от главной армии, чтобы в уютной безопасности неприступной крепости сидеть без всякого дела и только ежемесячно расписываться в правильном получении жалованья, они пришли в ужас от мысли, что придется защищаться не на жизнь, а на смерть… Именно эти негодяи лгали генералу, рисуя ему страшные картины внутренних беспорядков, бунтов и пр., чтобы склонить его как можно скорее к сдаче крепости при условии сохранения их жизни и собственности. Последнее условие многие особенно близко принимали к сердцу, так как все их помыслы в продолжение всей революции были направлены только на то, чтобы разбогатеть; кое-кому это и удалось. Отдельным лицам такое обогащение удавалось очень легко, так как многие отчитывались в полученных суммах не раньше, чем через полгода. Это создавало благоприятные условия для плутней и обмана, и иные, вероятно, запустили руки в кассу гораздо глубже, нежели способны были возместить… Перемирие было заключено; как же теперь его использовали? Из находившихся в крепости съестных припасов, которых хватило бы на целый год, большое количество без всякой необходимости было вывезено в окружающие деревни; наоборот, из окрестных мест не было ввезено никакого провианта; у крестьян ближайших деревень даже оставили сено и овес, несмотря на то, что крестьяне просили купить у них эти корма, а несколько недель спустя казацкие лошади поедали крестьянское достояние, в то время как мы в крепости жаловались на недостаток фуража. Значительная часть находившегося в крепости убойного скота была продана за город под тем предлогом, что для него не было достаточно корма. Полковник Ассерман, вероятно, не знал, что из мяса можно сделать солонину. Значительная часть зерна была также продана под тем предлогом, что оно начало портиться; это делали открыто, но еще чаще тайно. В таком окружении, которое состояло из Ассермана и подобных ему субъектов, Клапка, естественно, должен был тут же отказываться от всякой хорошей мысли, приходившей ему в голову; об этом заботились окружавшие его господа…» (Лапинский, 1. с., стр. 202–206).
Мемуары Гёргея и Клапки[562] одинаково убедительно свидетельствуют об отсутствии у Клапки твердого характера и политической проницательности. Все совершенные им во время защиты Коморна ошибки вытекают из этого основного порока.
«Если бы у Клапки, при его познаниях и патриотизме, была еще и собственная твердая воля и если бы он действовал по собственному разумению, а не по внушению окружавших его тупоумных и трусливых людей, то защита Коморна блеснула бы в истории, как метеор» (l. с., стр. 209).
3 августа Клапка одержал блестящую победу над осаждавшим Коморн австрийским корпусом, совершенно разгромил его и надолго сделал небоеспособным. Вслед за тем он взял Рааб и мог взять без труда даже Вену, но, не зная, что предпринять, в бездействии пробыл недолго в Раабе и вернулся затем в Коморн, где его ждало письмо от Гёргея и известие, что тот сложил оружие. Неприятель попросил о перемирии, чтобы сконцентрировать у Коморна разгромленный австрийский корпус и продвигавшиеся со стороны Римасомбата войска русских, а затем преспокойно окружить крепость. Вместо того, чтобы атаковать поодиночке еще только собиравшиеся вражеские части и разбить их порознь, Клапка стал опять беспомощно колебаться, но все же отказал австрийским и русским парламентерам в перемирии, Тогда, — рассказывает Лапинский, —
«22 августа в Коморн прибыл адъютант императора Николая… Однако, — сказал русский Мефистофель медоточивым голосом, — еы ведь не откажете нам, г-н генерал, в двухнедельном перемирии: его величество, всемилостивейший мой государь, просит вас об этом! Это подействовало, как сильный яд. Продувной адъютант немногими словами добился того, что, несмотря на все усилия и уговоры, не удавалось австрийским и русским парламентерам. Клапка не мог устоять перед такими тонкими комплиментами и подписал двухнедельное перемирие. С этого дня и начинается падение Коморна».
Самое перемирие, как уже упоминалось, было использовано при попустительстве Клапки полковником Ассерманом