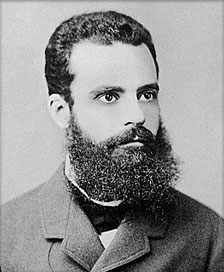Компендиум по общей социологии
становится очень высокой вероятность, что и но-вый вывод из этой гипотезы будет еще одним ее подтверждением,
и на практике допустимо принятие этого вывода без верификации. Это
объясняет, почему в сознании многих людей происходит отождествление
гипотезы, подчиненной опыту, с гипотезой, которая господствует над
опытом. На практике всегда встречаются случаи, когда полученные
из некоторых гипотез выводы принимаются именно так, непосредствен-
но. Например, в наши дни были поставлены под сомнение некоторые
принципы рациональной механики, по крайней мере для скоростей, на-
много превышающих те, с которыми мы встречаемся в повседневной
жизни; однако очевидно то, что проектирующий машины инженер мо-
жет следовать этим принципам и принимать их, никак не рискуя оши-
биться, поскольку скорости движения частей его машин очень далеки
от тех, при которых изменились бы принципы динамики.
обходимый характер (см. § 209). В этом отношении нам никак не помогут
ни наблюдения, ни опыт; законы указывают только на наличие некото-
рых единообразий и лишь в тех пространственных и временны´х грани-
цах, на которые распространяются такие наблюдения и такой опыт. Дан-
ное условие всегда подразумевается, даже когда мы предпочитаем не упо-
минать о нем. Кто не будет всегда о нем помнить, тот не сможет хорошо
осознать, о чем идет речь в этой книге.
Глава первая. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 21
ма. Например, силлогизм из трактатов по логике — «Все люди смертны;
Сократ — человек, следовательно, Сократ смертен» — с эксперименталь-
ной точки зрения надо выразить так: «Все люди, о которых мы смогли уз-
нать, умирали; благодаря известным нам признакам Сократа, он отно-
сится к категории этих же людей; следовательно, очень вероятно, что Со-
крат смертен».
(см. § 212, 235). Так, она намного выше вероятности следующего силло-
гизма, который можно было бы высказать до открытия Австралии: «Все
лебеди, о которых мы смогли узнать, оказывались белыми; птица, имею-
щая все черты, отличающие лебедей, об окраске которой нам еще неиз-
вестно, будет, следовательно, вероятнее всего белой».
противоречит постоянству естественных законов, означает строить
замкнутый круг рассуждения, предлагать как доказательство само дока-
зываемое утверждение. Если бы наличие «чуда» можно было доказать,
то тогда одновременно было бы нарушено постоянство естественных за-
конов. Суть проблемы состоит, следовательно, в доказательстве наличия
такого события. Это доказательство будет тем строже, чем шире круг из-
вестных нам фактов; остается только посочувствовать, так как честь до-
казывать выпадает тем, кто уверяет в наличии чуда.
установленные единообразия, и в этом отношении нет различия между
разными науками. Различия имеют место главным образом при большем
или меньшем наложении действия одних законов на другие. Небесной
механике повезло в том, что она может изучать проявления действия
одного-единственного закона (единообразия). Однако изучаемые
следствия могут быть и такими, что нахождение представленного в них
единообразия — дело крайне затруднительное. Напротив, по счастливой
случайности масса Солнца намного превосходит массы планет, и, следо-
вательно, единообразие раскрывается легко, хотя, если подойти строго,
предположение о том, что планеты движутся вокруг неподвижного
Солнца, неверно, и впоследствии потребуется исправить ошибку, допу-
щенную при первом приближении. В химии, физике и механике часто
можно изучать законы изолированно или, в крайнем случае, можно при
помощи искусственных средств отделять действие каждого из них от ос-
тальных влияний, хотя в ряде случаев они настолько переплетаются, что
их разделение оказывается непростым делом. Эти явления возрастают
22 КОМПЕНДИУМ ПО ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ
в биологии, геологии, еще более в метеорологии, а также социальных науках.
- Другое различие между научными законами касается разных возможно-
стей или невозможности отделить друг от друга их действия посредством
опыта <эксперимента>, который здесь мыслится как противопоставле-
ние <простому> наблюдению. Химия, физика, механика и биология
очень широко используют опыт, другие науки обращаются к нему реже,
третьи почти или совсем не используют его, что характерно для социаль-
ных наук и небесной механики, по меньшей мере, в ее части, относящей-
ся к изучению движения звезд. - Ни один закон, включая экономические и социальные законы, не допус-
кает исключений: неоднообразное единообразие — это бессмыслица.
Феномен, названный в просторечии исключением, представляет собой
наложение действия одного закона на действие другого закона. Только
в этом отношении научные законы, и даже законы математические, име-
ют исключения. Все материальные тела, расположенные на поверхности
Земли, притягиваются к ее центру, однако перо, подхваченное порывом
ветра, удаляется от земной поверхности, а оболочка, наполненная водо-
родом, поднимается в воздух. Наложение друг на друга разных единооб-
разий как раз и затрудняет исследования во многих науках. - Вместо отдельно наблюдаемых феноменов часто следует рассматривать
их вместе с другими, из-за которых действия одних единообразий ослаб-
ляются, а других — усиливаются. Мы не можем, к примеру, знать, какой
будет температура воздуха на 15 июня будущего года, но приблизительно
можно определить среднюю температуру в июне месяце, а еще точнее —
среднюю температуру трехмесячного периода за несколько лет. Однако
следует учесть, что эти средние показатели в значительной мере услов-
ные; они введены нами для нашего пользования. Не следует придавать
им смысл чего-то существующего вне зависимости от фактов, т. е. не сле-
дует видеть в них метафизические сущности. Часто они являются только
первой ступенью интерполяции. - В первом приближении мы можем удовлетвориться сведением о том, что
частично элиминированы менее существенные эффекты. При этом
не только можно, но и целесообразно сделать некоторое уточнение
по поводу терминов «менее» и «более» и определиться, что элиминирует-
ся, а что нет. Однако будет лучше, если можно установить границы расхо-
ждений, которые существуют между реальным феноменом (факты) и той
моделью, которую мы получим с помощью средних величин и усредняю-
щих теорий. Но это не отменяет того, что сам первый шаг, когда
Глава первая. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 23 отделяются менее существенные эффекты от более существенных, очень
ответствен, и часто бывает довольно трудно его сделать. Он открывает до-
рогу к дальнейшим шагам, и только педанты, совсем не сведущие в науке,
откажутся признать его пользу.
и фактически всегда имеется некоторый остаток. Теория никогда не мо-
жет охватить явления во всех деталях; следовательно, расхождения неиз-
бежны и остается только сводить их к минимуму. Значит, и с этой сторо-
ны мы вновь приходим к рассмотрению последовательных приближений
(аппроксимаций). Наука — это постоянное становление, т. е. непрерыв-
ное движение от одной теории к другой, более приближенной к реаль-
ным фактам.
то из числа тех, среди которых можно делать выбор, мы предпочтем тео-
рию, которая меньше всего расходится с фактами прошлого, позволяет
лучше предвидеть факты будущего и дает возможность распространить
ее на наибольшее число фактов.
ниях, что относится к тем логическим выводам, к которым они приводят,
и исключает всякое доказательство, построенное на соответствии с чув-
ствами, на самоочевидности или велениях совести.
вам. Именно поэтому оно ему кажется самым очевидным. В плане соци-
альной полезности это во многих случаях может быть и хорошо,
но в экспериментальной науке такая согласованность теоретического
положения с определенными чувствами почти, а то и вовсе, не имеет
значения.
Именно потому, что мы стремимся оставаться в области экспери-
ментальной науки, мы ни при каких обстоятельствах не будем апелли-
ровать к чувствам читателя. Мы будем представлять только факты и вы-
воды из этих фактов, будем вести речь только о предметах, а не о чувст-
вах, которые они в нас вызывают. Их мы будем изучать как внешние
факты.
физике, ставить логику и опыт на службу догмам, принимаемым под
влиянием чувств: мы стремимся отделять, а не сравнивать и тем более
не оценивать. Мы, в общем, утверждаем только то, что опыт остается
единственным из всего, что может использовать тот, кто не намерен
24 КОМПЕНДИУМ ПО ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ
выходить из экспериментальной области. Эти слова показались бы не- нужной тавтологией, если бы не было тех, кто все время смешивают опыт и веру, умозаключение и чувства.
- В экспериментальной науке нет догм, даже такой, в которой утвержда-
лось бы, что экспериментальные факты можно объяснять только из опы-
та. Если бы все же такая догма наличествовала, то экспериментальная
наука приняла бы ее точно так же в качестве простого наблюдения. Дей-
ствительно, она принимает положение о том, что для изобретений и от-
крытий порой оказываются полезными и неэкспериментальные прин-
ципы — постольку, поскольку они подтверждаются опытным путем. Од-
нако до сих пор история человеческого познания свидетельствовала, что
в процессе доказательства потерпели крах все попытки объяснить при-
родные факты с помощью положений, основанных на религиозных или
метафизических принципах. - Мы никоим образом не занимаемся внутренними истинами какой
бы ни было религии, веры, метафизического или нравственного суеве-
рия, поскольку все это лежит за пределами, в которых мы предпочитаем
оставаться. Но подобно тому, как сами не вторгаемся в сферы, где заняты
другие, мы, со своей стороны, не допустим, чтобы вторгались в нашу. Ес-
ли мы считаем нелепым и пустым занятием противопоставление опыта
тем принципам, которые лежат за пределами опыта, то мы лишь отказы-
ваемся признать господство таких принципов над опытом. - Понятиям обыденного языка недостает точности, она обеспечивается
только наукой.
Любому высказыванию, которое, подобно метафизическим суждени-
ям, основано на чувствах, недостает точности, так как в чувствах ее нет,
а название вещи не может представить ее точнее, чем она сама. Кроме то-
го, подобное суждение порой как раз и рассчитано на недостаточную точ-
ность обыденного языка, так как она позволяет скрывать логические
ошибки и убеждать.
Напротив, при экспериментальных рассуждениях, основанных на
объективном наблюдении, пользуются терминами, лишенными всякой
двусмысленности, и стремятся делать их как можно более точными. Сле-
довательно, надо пользоваться особым техническим языком, т. е. слова-
ми, которым придаются вполне четкие и определенные смысловые зна-
чения, что позволяет избежать неточностей обыденного разговорного
языка.
Итак, стремясь употреблять только логико-экспериментальные рас-
суждения, мы приложим максимум усилий к тому, чтобы слова были
вполне определенными и соответствовали вещам с минимумом ошибок,
Глава первая. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 25 т. е. с таким отклонением от экспериментальной области, которым мож-
но было бы пренебречь.
Здесь следует отметить, что слово выражает определенное представле-
ние, которое может отчасти соответствовать вещи и отчасти не соответст-
вовать ей, но оно никогда не соответствует ей полностью. Не имеют ре-
альных воплощений не только геометрические формы, такие, как прямая
линия, круг и т. д., нет также ни абсолютно чистых химических веществ,
ни идеально чистых видов в зоологии и в ботанике; нет ни одного физи-
ческого тела, полностью обозначенного понятием, потому что тогда по-
требовалось бы указать и момент, когда оно рассматривается: кусок же-
леза не остается идентичным, если меняются его температура, электри-
ческие свойства и т. д. Итак, следует пояснять соответствующим образом
те высказывания, которые в обыденном языке предстают как имеющие
безотносительный характер, и, как правило, заменять количественными
все те характеристики, относительно которых на обыденном языке сооб-
щается как о качественных отличиях.
ного языка по двум причинам. Во-первых, потому, что они полагают, что
слову непременно должна