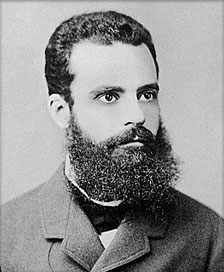Компендиум по общей социологии
продуманности, и, стало быть, почти все они попадаютво 2-й и в 4-й род. Многие поступки, которые предписаны правилами
этикета, а также обычаями, можно было бы отнести к 1-му роду, но очень
часто люди приводят для их оправдания всевозможные доводы, что за-
ставляет включить их во 2-й род.
Если мы не примем во внимание побочный мотив, связанный с тем,
что человека, который отходит от следования общепринятым нормам по-
ведения в обществе, осуждают и негативно воспринимают, то встретим
кое-какие поступки, которые следует отнести к 1-му и к 3-му роду. Геси-
од пишет:
32 КОМПЕНДИУМ ПО ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ
Также, смотри, не мочись никогда ни в истоки, ни в устье В море впадающих рек, — берегись и подумать об этом, Не опоражнивай в них и желудка, — то будет не лучше1. Предписание, призывающее не засорять реки у устьев, относится к 1-му роду, поскольку в действиях, направленных на воздержание от по- добных мерзостей, не заметно ни объективной, ни субъективной цели. Предписание, требующее не загаживать фонтан, относится к 3-му роду: в нем объективно имеется та цель, о которой Гесиод мог не знать, но она известна людям нашего времени. Это предотвращение распространения некоторых заболеваний. Вероятно, что среди дикарей и варваров встретится немало действий 1-го и 3-го рода, однако путешественники стремятся непременно узнать причины таких поступков. В конце концов, они их выискивают и полу- чают те или иные ответы, что позволяет их отнести ко 2-му или к 4-му роду.
- Что касается животных, то поскольку мы полагаем, что они не мыслят,
почти все их поступки считаются инстинктивными, и они займут ме-
сто в 3-м роде, хотя некоторые из них могут быть отнесены также
и к 1-му роду.
3-й род — это чистый тип нелогических действий; изучив их в живот-
ном мире, мы лучше поймем эти действия у людей.
По поводу насекомых, относящихся к подотряду жалящих, Эмиль
Бланшар2 пишет, что они, так же как и другие перепончатокрылые, при-
нимаются «сосать сладкий нектар цветов, только когда становятся взрос-
лыми; а их личинки могут питаться исключительно принесенной им до-
бычей. Поскольку они, как, скажем, личинки пчел и ос, не имеют ног
и не способны сами накормить себя, то они погибли бы сразу, если оказа-
лись бы предоставленными самим себе. Это учтено природой. Сама мать
должна заботиться о пище для своих малышей. Это трудолюбивое созда-
ние, питающееся только цветочным нектаром, готово воевать с другими
насекомыми, чтобы обеспечить существование своего потомства. Пере-
пончатокрылое насекомое нападает на других насекомых почти всегда
только ради того, чтобы позаботиться о создании продовольственных за-
пасов в своем гнезде, и прекрасно умеет находить тех насекомых, 1 Esiodo. Opera et dies. P. 757–758. [Гесиод. Работы и дни // Эллинские поэты / пер.
В. В. Вересаева. М.: Государственное издательство художественной литературы,- С. 166.]
2 Blanchard E. Histoire des insectes, traitant de leurs moeurs et de leurs métamorphoses
en général et comprenant une nouvelle classification fondée sur leurs rapports
naturels. P.: Librairie de Firmin & Didot frère, 1845.
Глава вторая. НЕЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 33
искать их. Самка жалит жертву и несет ее в свое гнездо. Раненное насеко-
мое не погибает сразу, оно погружается в состояние полного оцепенения,
онемения, оказывается неспособным двигаться и обороняться. Личин-
ки, которые вылупятся вблизи от этих съестных запасов, приготовлен-
ных их матерью, найдут рядом с собой нужную пищу в количестве, доста-
точном для всего времени их существования в этом качестве. Ничто так
не изумляет, как такая предусмотрительность, несомненно, совершенно
инстинктивная, в поведении каждой самки, заготавливающей в момент
откладки яиц питание для своих личинок, которых она никогда не уви-
дит, поскольку она уже погибнет к моменту, когда они появятся».
Другие перепончатокрылые, церцерисы, атакуют жесткокрылых на-
секомых. Здесь мы встречаем субъективно нелогическое действие, отли-
чающееся удивительной объективной логикой. Обратимся к Фабру.
Он отмечает, что перепончатокрылому насекомому, чтобы суметь пара-
лизовать жертву, надо выбирать такое жесткокрылое насекомое, у кото-
рого все три ганглии (нервных узла) грудной части тела располагаются
очень близко, почти соприкасаются, или находить жертву, у которой хотя
бы два таких узла сливаются воедино. «Вот такая именно дичь и нужна
церцерисе. Жуки со сближенными, или даже слившимися, нервными
центрами могут быть парализованы мгновенно, одним уколом жала; или,
если понадобится несколько ударов, то, по крайней мере, в одно место»3.
И далее: «Среди громадного числа жуков, за которыми, казалось, могли
бы охотиться церцерисы, только две группы отвечают необходимым ус-
ловиям — златки и долгоносики. Они живут далеко от грязи и вони и сре-
ди них встречаются виды всевозможной величины, пропорционально ве-
личине охотников, и в то же время они более других уязвимы в единст-
венной точке груди, где у долгоносиков три грудные ганглии очень
сближены, а две задние даже сливаются, в этой самой точке у златок
2-я и 3-я ганглии, вблизи 1-й, соединены в одну массу. И вот, именно
долгоносиков и златок ловят исключительно те восемь видов церцерис,
относительно которых доказано, что личинки их питаются жуками»4. - С. 166.]
тип рассудочного поведения или, правильнее сказать, способность при-
спосабливать средства к цели при изменении обстоятельств. Фабр, кото-
рого мы так часто цитируем потому, что этот автор изучал данную тему 3 Fabre J. H. Souvenirs entomologiques. Études sur l’instinct et les moers des insects.
1-re série. P., 1879. P. 72. [Фабр Ж. А. Инстинкт и нравы насекомых / пер. с франц.
Е. И. Шевыревой. М.: Терра, 1993. С. 31.]
4 Fabre J. H. Op. cit. P. 73. [Фабр Ж. А. Указ. соч. С. 31–32.]
34 КОМПЕНДИУМ ПО ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ
лучше кого бы то ни было, пишет: «Для инстинкта ничего нет трудного до тех пор, пока действие не выходит из обычного круга деятельности, от- веденного животному; для инстинкта также нет ничего легкого, если дей- ствие должно отклоняться от обычного пути. Насекомое, которое удив- ляет и поражает нас своей высокой проницательностью, минуту спустя, перед фактом самым простым, но чуждым его обыкновенной практике, удивляет нас уже своей тупостью»5. «В психической жизни насекомого следует различать две области, очень различные между собой. Одна об- ласть — это собственно инстинкт, бессознательный импульс, который управляет тем, что есть самого удивительного в строительном искусстве насекомых… Он, и только он, заставляет мать строить и заготовлять про- визию для неизвестной ей семьи, направляет жало к нервным центрам до- бычи…, чтобы запасы сохранились в свежем состоянии… Но если бы насе- комое было одарено только чистым инстинктом, то оно оставалось бы без- оружным перед постоянным столкновением обстоятельств… Необходим руководитель для того, чтобы найти, принять, отказаться, выбрать, пред- почесть это, сделать то, наконец, извлечь пользу из того, что случай может предоставить полезного. И действительно, насекомое обладает этим руко- водителем, и в очень значительной степени. Это вторая область его психи- ческой жизни. Здесь оно действует сознательно и способно к усовершен- ствованию при помощи опыта. Не решаясь назвать эту способность разу- мом (intelligence), — слишком возвышенным для нее термином, — я назову ее распознаванием (discernement), способностью различать»6.
- Эти феномены в качественном отношении почти те же и для человека;
однако в количественном плане область логических действий, очень ог-
раниченная у животных, становится весьма обширной в поведении лю-
дей. Но уже у животных появляются зачатки логического поведения. По-
сле рассказов о том, как он обманывал некоторых насекомых, которые
упорно совершали бесполезные поступки, Фабр добавляет: «Вспомним
здесь, что желтокрылого сфекса не всегда можно обмануть игрой, состоя-
щей в том, чтобы отодвигать сверчка. В иных местах есть элитарные осо-
би этого вида с крупной головой, которые после нескольких неудач рас-
познают хитрости экспериментатора и умеют разрушать его замыслы.
Но этих революционеров, способных к прогрессу, небольшое число,
а прочие, большинство, толпа, упрямые консерваторы, приверженцы
старых обычаев и привычек»7. 5 Ibid. P. 165–166. [Фабр Ж. А. Указ. соч. С. 83.]
6 Ibid. P. 65–67. [Там же. С. 413, 414.]
7 Ibid. P. 176–177. [Там же. С. 89.]
Глава вторая. НЕЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 35 Пусть читатель хорошо запомнит это наблюдение, поскольку подоб-
ный контраст между тенденцией к комбинациям, ведущей к обновле-
нию, и тенденцией к постоянству определенных групп чувств, которая
приводит к консервации, могла бы направить нас на путь, ведущий к объ-
яснению многих фактов в жизни человеческих обществ (см. гл. 6).
ные действия насекомых. Было бы нелепо утверждать, что грамматиче-
ская теория предшествовала языковой практике. Разумеется, она воз-
никла после нее, и люди, не осознавая этого, создали утонченные грам-
матические формы.
Возьмем для примера греческий язык. Если бы мы смогли углубиться
в далекое прошлое, дойти до тех индоевропейских языков, от которых
происходит греческий язык, то наши наблюдения стали бы очень четки-
ми, поскольку наличие грамматических абстракций в столь далекие
времена наименее вероятно. Мы не можем предполагать, что древние
греки однажды собрались вместе, чтобы принять декрет о том, как
должны спрягаться глаголы; само использование глаголов сделало древ-
негреческие спряжения подлинным шедевром. В аттической культуре
мы имеем движение вперед как знак прохождения длительного периода
истории, утонченный язык, и, наряду с силлабическим слогом, добавле-
ние букв для обозначения гласных звуков. Аорист* и функция этой
<глагольной формы> в синтаксисе стали тем изобретением, которому
могут воздать должное даже самые сведущие в логике специалисты.
Большое число глагольных форм, уточнение их функций в синтакси-
се, — все это не может не изумлять.
прежде чем покидать город, обязан был совершать гадания (auspici)
на Капитолии. Он мог это сделать только в Риме. Не следует полагать, что
в истоках данного обычая была политическая причина, хотя позднее та-
кая практика фактически приобрела политический характер8. «Хотя
только от воли комиций*** зависело продление его утвержденных
- Финикийцы изобрели слоговое письмо, в котором знаки соответствовали соче-
таниям согласного с гласным. Греки, заимствовавшие финикийскую письмен-
ность, в IX в. до н. э. усовершенствовали ее, добавив к уже имевшимся буквам,
обозначавшим согласные звуки, новые буквы для обозначения гласных звуков.
** Временна´я форма глагола, обозначающая в ряде индоевропейских языков дейст-
вие, отнесенное к прошлому.
8 Mommsen Th. Le droit public romain. T. 1. P., 1887. P. 114–115.
*** Народное собрание в Риме.
36 КОМПЕНДИУМ ПО ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ полномочий, но они не могли расширить права военного командования
без совершения на Капитолии гаданий. Следовательно, данный акт нахо-
дился в ведении города… и если бы хотя бы раз он прошел не в соответст-
вии с конституцией, то были бы устранены ограничения, установленные
даже в отношении решений комиций суверенного народа. Вовсе
не конституционные барьеры, но те гарантии, каковыми являлись аус-
пиции* в отношении генералов, защищали от опасности усиления во-
енной власти, но это правило, в конце концов, нарушили, а точнее,
обошли. В более позднюю эпоху к городу Риму, используя аналогичную
правовую уловку, присоединяли земельные участки, лежавшие вне гра-
ниц города, словно они располагались в померии, в дополнение к auspizium requis*».
Позднее Сулла не просто отменил эту связанную с предзнаменова-
ниями гарантию; он сделал ее впредь