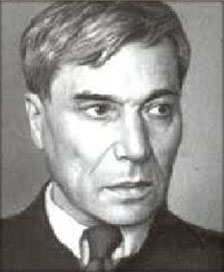означала не только возвраще¬ние клирике, но лирике, построенной на иных основаниях, «рождение заново». «Вторично родившимся» Пастернак назвал себя в стих. «Мар¬бург» после отказа Высоцкой, новая книга стихов стала символом преодоле¬ния смерти, той, которая должна была наступить вслед за «последним годом поэта», как называл Пастернак в «Охранной грамоте» 1929 год.
«Ни общего языка, ни чего бы то ни было другого современная жизнь лирику не подсказывает. Она его только терпит, он как-то экс¬территориален в ней. Вот почему эта сторона творчества вышла из эсте¬тического кольца. Общий тон выраженья вытекает теперь не из воспри¬имчивости лирика, не из преобладайья одного рода реальных впечатле¬ний над каким-нибудь другим, а решается им самим почти как нравст¬венный вопрос. То есть там, где в здоровое время мы считали бы естественным говорить так-то и так-то, мы теперь (каждый по-разно¬му) считаем это своим долгот (письмо С. Д. Спасскому 29 сент. 1930).
Стихотворения, составившие книгу, были написаны в 1930—1932 гг. Основой ее стал цикл, возникший в апреле — июне 1931 г., трехмесяч¬ное пребывание в Грузии пополнило книгу циклом путевых картин и размышлений. Любовная лирика посвящена двум женщинам — Зинаи¬де Николаевне Нейгауз, ставшей в 1931 г. женой Пастернака, и худож-нице Евгении Владимировне Пастернак, с которой он расставался.
Отдельному изданию книги в 1932 г. предшествовали публикации новых стихов в журналах. По времени написания и содержанию они составили семь стихотворных циклов. Разделение на циклы, повторен¬ное во втором издании 1934 г., было снято в «Стихотворениях в одном томе» 1933, где книга называлась «Волны». Три стихотворения граждан¬ского содержания «Когда я устаю от пустозвонства…», «Весенний день тридцатого апреля…» и «Столетье с лишним — не вчера…» были исклю¬чены автором из этого собрания.
Появление книги, ориентированной на широкую публику и отли¬чавшейся большей доступностью, было встречено резкими нападками критики. А. П. Селивановский констатировал, что «субъективно-идеа¬листический метод Пастернака не позволяет ему преодолеть узкую ог¬раниченность действительности», но признавал, однако, за «Волнами» «бесспорную художественную силу» («Пролетарская поэзия на подъе¬ме» //Литературная газета 23 апреля 1932). Надо сказать при этом, что понятие субъективного идеализма приравнивалось по тем временам контрреволюционности. Острую полемику вызывала тема идеально понимаемого социализма, отодвигаемого «вдаль» и приравниваемого природе. Выступавшие на писательской дискуссии 6 апр. 1932 г. В. Виш¬невский, О. Колычев и П. Маркиш, однако, отмечали высокое мастер¬ство и рождение новой манеры в книге Пастернака.
Волны. — «Новый мир», 1932, № 1, как цикл из 13 стих.; варианты: ст. 179: Борьба с природою и воздух ст. 221: Ты — край, где в дружбе эти обе ст. 229: И трачу все, что знаю я.
ст. 50: [Растущей из застав и дней,]
ст. 68: [Как ты кончаешься, Москва.]
ст. 76: Молчанье первых рандеву.
ст. 88: Там испарялся Дагестан.
ст. 124: Не принятую на войне.
ст. 179: Успех и долг, и труд и воздух,
ст. 200: [Наш сон], наш генеральный план!
ст. 221 — как в «Красной нови»,
ст. 256: В немыслимую простоту.
ст. 270: Рассматриваемом] в обед.
— Машин, сб. 1956; варианты:
ст. 7—8: Волна подаст свой голос в хоре
И новой очереди ждет, ст. 234: И сны, и вещи наяву, междуст. 240-241:
Шумит прибой, и неизменно
Ложится за волной волна,
И их следы смывает пена
[С песчаных куч, как письмена.]
С песку как будто письмена, ст. 248: Которому не век судья.
Варианты ст. 261—267 («Другие редакции и варианты»: «Октябрь, а солнце также жгуче…». С. 321).
— Верстка сб. 1956, ст. 7-8 — как в предыдущих изданиях, авт. при¬меч.: «Попало во французский перевод». Ст. 61-64 выпущены; варианты:
ст. 73-76: Здесь будет дальнего обвала
Гремящий за горами гул,
И жалкий дворик постоялый,
И скалы, сакли и аул. между ст. 240-241 — строфа, как в машин., последняя строка:
С песчаных куч, как письмена.
— «Второе рождение» 1932. — «Второе рождение» 1934, как слитный текст безделения на отрывки, посвящ. Н. И.Бухарину, междуст. 120 и 121: Война не сказка об Иване, И мы ее не золотим. Звериный лик завоеванья Дан Лермонтовым и Толстым. (Появление этой строфы было вызвано претензиями к описанию Кавказской войны как влюбленности русских в эту землю. Звериный лик завоеванья/ДанЛермонтовым и Толстым. — Отсылка к «Валерику» Лер¬монтова и «Хаджи-Мурату» Толстого.)
—Автограф 1,2,3 и 11-го отрывков, без назв., переданный Г. В. Бе-бутову 15 окт. 1931 г. (РГАЛИ. — «Другие редакции и варианты»: «Здесь будет все, — пережитое…». С. 319) — Автограф «Волны»; варианты:
ст. 248 — как в предыдущих изданиях,
ст. 261-276 — см. «Другие редакции и варианты». С. 321.
Написано в сентябре-октябре в Кобулетах (Кобулети), в Грузии, окончено в Москве зимой 1931 г. На дискуссии 6 апр. 1932 г. П. Яшвили сказал: «Все, что написано им в поэме «Волны», написано им на моих глазах, и должен заверить, что ни в одной строчке нет фальши, нет ни одного придуманного, непроверенного чувства» (Стенограмма. И МЛ И).
Мне хочется домой, в огромность/Квартиры, наводящей грусть. — Отцовская квартира, где Пастернак занимал одну комнату, была к это¬му времени перенаселена. «Много семей у нас живет на Волхонке, все в разное время встают, начиная с 6-ти утра, весь день ходьба, все это мимо меня грохочет, а у меня перегородок тонкоребрость, сквозь которые мож¬но пройти как свет», — писал Пастернак М. Цветаевой 24окт. 1934 г. Ларе, Млеты — селения на Военно-Грузинской дороге. Девдорах—лед¬ник на северо-восточном склоне Казбека. …зависть / К наглядности таких преград… / О, если б нам подобный случай… — мечта о живой ре¬альности взамен неосязаемости человеческих построений. Ср.: «Нали¬чия пролетарской диктатуры недостаточно, чтобы сказаться в культуре. Для этого требуется реальное пластическое господство, которое гово¬рило бы мною без моего ведома и воли и даже ей наперекор» («Что го¬ворят писатели о постановлении ЦК РКП(б)», 1925). См. также: Пере-правляй, но только ты <...>/ Ты — край, где женщины в Путивле/Зегзи-цами не плачут впредь… — имеется в виду плач Ярославны в «Слове о полку Игореве»: «Полечу, рече, зегзицею по Дунаеве». Зегзица — кукуш¬ка. «Путивль — старый исторически известный город, упоминающийся в «Слове о полку Игореве», — стольный град (резиденция) князя Иго¬ря, на стенах которого плачет Ярославна», — объяснял Пастернак в пись¬ме к Рипеллино 17 авг. 1956 г. Есть в опыте больших поэтов… — в книге «Второе рождение» выявляется опора на «вековой прототип» русской классической поэзии, в первую очередь это Пушкин и Лермонтов, здесь слышны слова Боратынского, его возмущение «подражателями», под-делывающими искренность поэзии. Ср.: «Публике наскучило простое, / Мудреное теперь любезно для нее…» («Богдановичу», 1824). Неслы¬ханная простота. — В «Охранной грамоте» Пастернак писал, «что без-личье сложнее лица. Что небережливое многословье кажется доступным, потому что оно бессодержательно. Что, развращенные пустотою шаб-лонов, мы именно неслыханную содержательность, являющуюся к нам после долгой отвычки, принимаем за претензии формы».
Баллада. — «Красная новь», 1930, № 12, посвящ. Генриху Нейгаузу, вместе со следующим стих, под общим назв. «Две баллады» и примеч.: «Ирпень. Конец августа». — «Поверх барьеров» 1931, под назв. «Балла¬да», с посвящ., в разделе «Смешанных стихотворений». — «Второе рож¬дение» 1932, без посвящ. — Автограф, подаренный 3. Н. Нейгауз, текст — как в «Красной нови». — Наборная машин, книги с авт. прав¬кой (РГАЛИ, ф. 613), посвящ. зачеркнуто в ответ на редакторский во¬прос. — Машин, сб. 1956, исправление в ст. 12 и 38 слова «метиол» на правильное: «матиол». Бессонный запах матиол <...>. Метель полночных матиол. — «Метиолы — ночные цветы (садовые) с еще более сильным, чем у любки (но любка — растение дикое, лесное) запахом. Мелкая трав¬ка с крошечными цветочками в виде розовато-фиолетовых крестиков с пряным запахом ванили (напоминающим аромат гелиотропа)», — объ¬яснял Пастернак в письме А.-М. Рипеллино 17 авг. 1956 г.
Посвящено концерту проф. консерватории Г. Г. Нейгауза (1888-1964), состоявшемуся 15 авг. 1930 г. в Киеве в Купеческом саду, на высо¬ком берегу над Днепром и Подолом — прилегающей к Днепру низкой частью города. Шопена траурная фраза… — в программу концерта (см. газ. «Киевский пролетарий» 15 авг. 1930) входил ми-минорный концерт Шопена. Араукария — тропическое растение из семейства еловых. …каторжник на Каре… — река на границе Архангельской и Тюменской областей, место каторжных работ на золотоносных рудниках.
Вторая баллада. — «Красная новь», 1930, № 12, посвящ. Зинаиде Нейгауз, вместе с предыдущим стих, под общим назв. «Две баллады» и примеч.: «Ирпень. Конец августа»; варианты: ст. 6-7: Гребут, шмелем гудя, осины.
На даче спят под гул осиный, ст. 12—14: Сурдин рассерженный надсад, Льет дождь и, сталкиваясь в лад, Гребут сады, трещат теснины, междуст. 16 и 17:
До нас рукой подать. Наш сад В пяти шагах. Он в той же роте Берез, на полном повороте Стремглав отброшенных назад. Клонясь впопад и невпопад, Деревья изгибают спины. На даче спят под стон сурдинный, Как только в раннем детстве спят. — «Поверх барьеров» 1931, под назв. «Баллада» и с посвящ., в разделе «Смешанные стихотворения». — «Второе рождение» 1932, под назв. «Бал¬лада», без посвящ. — Избр.—1933, под назв. «Баллада», без посвящ., в раз¬деле: «После Ирпеня». — Автограф, подаренный 3. Н. Нейгауз, текст — как в «Красной нови». — Наборная машин, книги с авт. правкой (РГАЛИ), посвящ. зачеркнуто. — Верстка сб. 1956, назв. «Вторая баллада».
На даче спят два сына… — пяти- и трехлетние Адриан и Станислав Нейгаузы. Комплот — сговор, сообщество. Плашкот — плоскодонная беспалубная баржа.
Лето. — «Новый мир», 1931, № 4, посвящ. Ирине Сергеевне Ас¬мус. — «Поверх барьеров» 1931 с посвящ., в разделе «Смешанные сти¬хотворения». — «Второе рождение» 1932, без посвящ. — Наборная ма¬шин. (РГАЛИ), посвящ. зачеркнуто. Вместе с И. С. Асмус (1893-1946), ее мужем, историком философии В. Ф. Асмусом (1894-1970), Нейгау-зами и семейством брата Александра Пастернаки прожили лето 1930 г. в дачном месте Ирпень под Киевом. Китайка — здесь: желтая краска. Квакша — древесная лягушка. В дни съезда шесть женщин топтали луга. — Е. В. Пастернак, 3. Н. Нейгауз, И. С. Асмус, И. Н. Пастернак, М. Н. Вильям, А. Н. Вильям. Панёва — грубая домотканая шерстяная материя в клетку и юбки, сшитые из нее, — непременная принадлеж¬ность украинского национального костюма. На пире Платона во время чумы. — Отсылка к диалогу Платона «Пир» и трагедии Пушкина «Пир во время чумы», столетний юбилей которой (1830-1930) приходился на эту осень (вековой прототип), объясняется проводившейся в окружаю¬щих деревнях насильственной коллективизацией. На этом фоне, напо¬минающем эпидемию холеры, бушевавшей вокруг Болдина, когда Пуш¬кин писал свою трагедию, вечерние застолья друзей в Ирпенё ассоци-ировались с диалогами Платона о любви