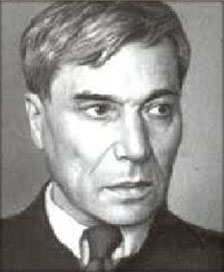памятка о нескольких неловких минутах, быстро затем за¬бытых в разговоре» («По страницам одной переписки» // «Литератур¬ная Грузия», 1966, № 3).
В Чукоккалу («Юлил вокруг да около…») — К. Чуковский. Что вспом¬нилось // Прометей. Историко-биографический альманах. Т. I. 1966 (факсимиле стихотворения).
Чукоккапа — рукописный альманах Корнея Чуковского, собравше¬го автографы многих знаменитых людей. Впервые издан в цензурован¬ном виде в 1979 г., полностью в 1999-м. Любимцу сына, то есть Евгения Борисовича Пастернака. Питомице невянущей / Финляндских побере¬жий… — собирание рисунков и автографов началось в 1914 г., когда Чу¬ковский жил на финском побережье в поселке Куоккала, что отрази¬лось на названии его альбома. За Колю и за Whitman ‘а… — за сына К. Чу¬ковского Николая, поэта и прозаика, с которым Пастернак дружил в 1920-е гг., и за книгу переводов К. Чуковского из Уолта Уитмена «По¬эзия грядущей демократии», М., 1914.
Татьяне Владимировне Толстой («Чем незаслуженнее честь…») — Избр.-1985. Т. 2. Написано на экз. книги «Воздушные пути» (М., 1933; собр. Л. Б. Либединской).Т. В. Толстая^ 1892-1965) —поэти прозаик, печата¬лась под псевдонимом Татьяны Вечорки. Среди книг Пастернака сохра¬нился подаренный ему с надписью автора сборник стихов «Треть души», М., 1927. …в Вашем лестном посвященьи. — Т. Толстая посвятила Пас-тернаку свой исторический роман «Бестужев-МарлинскиЙ» (М., 1933).
<В альбом Ниты Табидзе > («Пускай мне служат красной нитью…») — Собр. соч. Т. 2, по автографу в альбоме Танит Табидзе, до¬чери поэта Тициана Табидзе.
А. И. Вьюркову («Пришел за пачкой облигаций…) — Встречи с про¬шлым. М., 1984. Вып. 5. — Автограф в альбоме А. И. Вьюркова (РГАЛИ, ф. 1452). Стих, предваряется словами: «Ты замечательный, душевный че¬ловек, Вьюрков! Первый твой недостаток, какой я заметил, это что ты завел этот альбом». После стихов: «Да, а во всем остальном ты прелесть. Будь здоров и счастлив. 5. VI. 36. Б. П.». Александр Иванович Вьюрков (1885—1956) — автор рассказов и очерков о старой Москве, работал в груп-коме издательства «Советский писатель». Сохранился отзыв Пастернака на книгу очерков Вьюркова «Москва-матушка», которые «держатся жи¬востью и колоритом» (12 нояб. 1930; ГЛМ, ф. 143).
«Мы пили чай из красных чашек…» — Стих, и поэмы-1990. Т. 2. — Записано В. Д. Авдеевым на конверте от письма Л. М. Леонова. При¬меч. Авдеева: «Пастернак по духовному наитию Асеева» (РГАЛИ, ф. 286). …ушедших — Колю / С женой. — Николай Асеев с женой Ксенией Ми¬хайловной. «Авдеевские салоны» собирали приехавших в Чистополь эвакуированных писателей. См. стих. «В. Д. Авдееву» («Когда в своих воспоминаньях…», 1942).
А. Е. Крученых («Вместе с Алешей…») — Избр.—1985. Т. 2 по авто¬графу (РГАЛИ, ф. 1334). — Машин, с пометкой автора на полях против строфы 1-й: «Проверено давностью. Б. Пастернак» и примеч. Крученых: «Написано в 1923 г.» (РГАЛИ, ф. 1334). Михаил Михайлович Морозов (1897-1952) — историк литературы, шекспировед, редактор переводов Пастернака. Последнее обстоятельство сопоставляется в стих, с путе¬шествием Данте в «Божественной комедии» с Вергилием в аду, как с про¬водником.
Алексею Крученых («Япревращаюсь в старика…») — Избр.—1985. Т. 2. — Автограф (РГАЛИ, ф. 1334). Написано к 60-летию А. Е. Кру¬ченых.
Евгении КазимировнеЛивановой. Имениннице. — В. Ливанов. Невы¬думанный Борис Пастернак. М., 2002. — Автограф в собр. В. Б. Ливано¬ва. Евгения Казимировна Ливанова (1911-1978) — жена актера МХАТ Б. Н. Ливанова. Она мне внушила / «Звезду Рождества»… — имеется в виду стих. «Рождественская звезда» (1948). День именин Е. К. Ливано¬вой приходится на Рождественский сочельник (6 января).
Петру Ивановичу и Марии Антоновне Чагиным («Сколько было пауз-то…») — Собр. соч. Т. 2. — Стих, было записано на книге И.-В. Гёте. Фауст. Перевод Б. Пастернака. М., 1953. — Автограф (собр. М. А. Чаги-ной; теперьг Швеция, частное собр.). Петр Иванович Чагин (наст. фам. Болдовкин; 1898-1967) — издательский работник. Благодетельные сдвиги /В толках средь очередей. — Пастернак отмечает большую свободу в об¬щении людей, наступившую после смерти Сталина. Ср.: «Зимою не¬сколько либеральных месяцев были в том отношении облегчением, что знакомые заговорили живее и с большим смыслом, стало интереснее ходить в гости и видать людей» (письмо к О. Фрейденберг 12 июля 1954). Выпускают и людей. — В это время началось освобождение арестован¬ных, возвращавшихся из лагерей. «Ничего, конечно, для меня сущест¬венным образом не изменилось, кроме одного, в нашей жизни самого важного. Прекратилось вседневное и повальное исчезновение имен и личностей, смягчилась судьба выживших, некоторые возвращаются» (письмо О. Фрейденберг 30 дек. 1953).
«Культ личности забрызган грязью…» — Ивинская. В плену време¬ни; варианты:
ст. 1-4 а): Культ личности лишен величья,
Но в силе — культ трескучих фраз, И культ мещанства и безличья Быть может, вырос во сто раз.
ст. 1 б): Культ личности забросан грязью
ст. 9: И видно, также культ мещанства
— Собр. соч. Т. 2. — Стих, не было записано автором или авто¬граф был сразу же уничтожен, оно ходило в списках в разных вариан¬тах. Культ личности забрызган грязью… — «культ личности Сталина» был разоблачен Н. С. Хрущевым на XX съезде партии в феврале 1956 г. Фотографические группы / Одних свиноподобных рож. — Ивинская свя-зывает это уподобление с впечатлением от недавно прочитанного «Animal farm» («Скотного двора») Оруэлла. …стреляются от пьянства, / Не в силах этого снести. — Отклик на самоубийство А. Фадеева (16 мая 1956). В очерке «Люди и положения» (1956) Пастернак писал: «И мне кажется, что Фадеев с той виноватой улыбкой, которую он сумел про¬нести сквозь все хитросплетения политики, в последнюю минуту перед выстрелом мог проститься с собой такими, что ли, словами: «Ну вот, все кончено. Прощай, Саша»».
А. П. Зуевой («Великой истинной артистке…») — Избр.—1985. Т. 2 по автографу из альбома А. П. Зуевой. После стихов приписка: «Но все это глупости. Но как сливается с огнями рампы, вечерним светом Ваш священный огонь артистки, Ваша искра Божия, в одно мерцающее це¬лое городской ночи, тепла и света, творческой тревоги и тайны. Вот это-то и есть счастье, и другого не надо. Ваш Б. П.» (собр. А. П. Зуевой).
…в телефонном этом списке… — альбом Зуевой представляет собой телефонную записную книжку.
ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ (С. 281)
В тетрадях студенческих записей Пастернака университетского времени (1909-1913) сохранились первые наброски стихотворений и прозы, собранные А. Л. Пастернаком, сберегшим их от строгих глаз стар¬шего брата, резко отрицательно относившегося к написанному в ран¬ние годы.
Сочетание в тетрадях конспектов философских работ и книг, мате¬матических подсчетов, спряжений греческих глаголов и фрагментов прозы, первых стихотворных переводов Рильке и оригинальных стихо¬творений отражает художественное становление Пастернака, легко пе¬реходившего от одного жанра к другому и объединявшего их различия стремлением к совершенствованию и овладению мастерством.
В очерке «Люди и положения» (1956) Пастернак назвал свои ран¬ние литературные пробы «первыми опытами», в которых его друг С. Н. Дурылин сумел найти «что-то достойное внимания». Мы восполь¬зовались авторским наименованием, чтобы обозначить раздел допечат-ных стихотворных и прозаических набросков. В письмах 1910-х гг. Пас-тернак неоднократно вспоминал об этих вещах, которые он подписы¬вал именем Реликвимини (письмо А. Л. Штиху 10 июля 1914).
Семьдесят стихотворений этого собрания были опубликованы в 1969 г. в Тартуском сборнике «Семиотика». Некоторые автографы были подарены и сохранились в архивах друзей Пастернака А. Л. Штиха (РГАЛИ) и К. Г. Локса (собр. Е. В. Суховаловой). В своих воспомина¬ниях «Повесть об одном десятилетии. 1907—1917» К. Локс упоминает о подаренных ему семи стихотворениях «той эпохи с вариантами». «Эти стихотворения, — пишет он, — создавались на моих глазах и были на¬писаны на клочках бумаги в Cafe Grec на Тверском бульваре» («Минув¬шее»: Исторический альманах, № 15. М.—СПб., 1994. С. 63).
Наброски датируются по расположению в тетрадях, бумаге и цвету чернил, по вложенным в тетради библиотечным требованиям с дата¬ми, по содержащимся в них отражениям биографических событий и тексту, написанному на обратной стороне листа. Обоснования дати¬ровок не комментируются. Упоминание стихотворений, написанных летом 1912 г. в Марбурге, в письмах Пастернака и в «Охранной грамо¬те» также помогает датировать некоторые из них. Наиболее ранние отнесены нами к 1910 г., потому что их наброски сохранились на стра¬ницах реферата «Скептицизм Юма», работа над которым была окон¬чена 1 февр. 1910 г.
В автографах много вычеркиваний и разночтений, характеризую¬щих многостадийную работу над черновиком. В коммент. приводятся лишьте, которые дают добавочные штрихи и помогают пониманию тек¬ста, причем более поздние идут перед ранними. Часто отсутствуют зна¬ки препинания, которые, как и сокращения окончаний в словах, вос-станавливаются без специального объяснения.
Полный свод вариантов строк приведен в «Семиотике». Рассмат¬ривая в предисловии к этой публикации творческое движение текста как последовательную реализацию идеальной модели стихотворения, Ю. М. Лотман отмечает проявившуюся уже в первых стихах характер¬ную для поэтики Пастернака особую сочетаемость слов, которая давала критике и читателям материал для обвинений его в субъективности, иррационализме и произвольности образов. Но «многочисленность ва¬риантов, отвергаемых автором, рисующая картину трудного и длитель¬ного поиска, исключает возможность предположения, что единственным законом построения текста является отказ от общепринятых законов».
Ритм и рифма не влияют на содержание стихотворения, как это бывает у других поэтов, но — «семантический костяк текста», который «втис¬кивают в размер». Так характеризует Лотман то свойство Пастернака, которое он сам называл словом «композиция» и которое было первым условием для написания стихотворения. «Именно значение слов, а не их ритмика определяют характер отбора слов в поэзии Пастернака», — пишет Лотман. Отвергая тезис субъективизма поэтического мира Пас¬тернака, Лотман главным образом убеждается в «вещности, предметно¬сти его «поэтического хозяйства» и в напряженности попыток найти скрытые отношения между предметами и сущностями внешнего мира» («Семиотика». С. 220-221, 224).
Аналогичные наблюдения по поводу первых стихотворных опы¬тов Пастернака высказывал С. П. Бобров: «…Боря начал поздно. Но и это еще не все! Мало того <...>, он тащил в стих такое огромное содер¬жание, что оно <...> разрывало стих в куски, обращало стих в осколки стиха, он распадался просто под этим гигантским напором <...>. Нрав-ственная трагедия Бори была не в трудностях со стихом, а в одиночест¬ве непостижимого для окружающих содержания» (письмо Е. Б. Пастер¬наку 12 дек. 1964).
Кроме того, отметим, что уже в первых стихах Пастернака появ¬ляются те образы и темы, которые станут впоследствии постоянными в его поэзии, такие, как зимние пейзажи Москвы с ее церквами или пробуждающаяся городская весна. В стихах ранней поры отразился переживаемый в то время юношеский аскетизм и христианский образ мыслей, который, по словам Пастернака, «владел» им «сильнее все¬го» в 1910-1912 гг., «когда закладывались основы (его. — Е. Я.) свое¬образного взгляда на вещи, мир, жизнь» (письмо к Ж. де Пруайяр 2 мая 1959).
«Гримасничающий закат…» — «Семиотика», окончательный текст первой строфы выписан на отдельной странице, последняя строфа